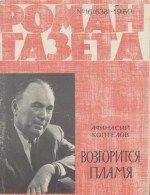— В аймаке сказали: надо учить всех. Скоро начнут у нас строить школу. Настоящего учителя пришлют.
Ярманка побежал по стойбищу — созывать людей к Чумару.
В каждом аиле он повторял одно и то же:
— Ночь лежала на Алтайских горах, темная, страшная. Ничего не было видно. Все неграмотные. Учиться будете — светать начнет, а потом солнышко выглянет. Все видно… Все знать будете. Идите учиться.
Тохна Содонов шепнул Ярманке:
— И я пойду учиться.
Отец проворчал:
— Пора кобыл доить. Лови жеребят, привязывай.
— Я скоро прибегу, — сказал парень и выпорхнул из аила вслед за младшим Токушевым.
Ярманка и Тохна бежали по долине.
— Всех ребят, которые в комсомол записались, соберем?
— Всех. Кто учиться не хочет — плохой комсомолец.
— Спать не лягу, учиться буду.
На следующее утро на лужайку возле аила Чумара собрался народ. Тех, кто пожелал учиться грамоте, Чумар усадил в кружок, роздал им тетради, показал, как держать карандаш. Черную доску повесил на лиственницу.
Вокруг каждого ученика — пестрый букет шапок. Любопытствующие сородичи через плечи друг друга заглядывали в тетради, развернутые на коленях учеников.
— Смотри, какие палки пишет!
— А что такая палочка скажет?
Ярманка упрашивал:
— Не кричите, товарищи! Не мешайте учителю!
Женщины, расположившиеся неподалеку, мяли овчины, шили обувь, сучили нитки из жил косули и изредка посматривали на доску.
По утрам Ярманка раньше всех прибегал к лиственнице и там дожидался Чумара.
— Сегодня какую букву покажешь?
Когда учитель жаловался, что ученики долго не приходят, Ярманка срывался с места и бежал от аила к аилу, пронзительным криком подымая все кочевье.
— Солнце встало, учитель встал — учиться иди!
После занятий Ярманка снимал доску и уносил к себе в аил. Он видел, как приходили к Чумару пожилые алтайцы за советами, сам не раз порывался спросить у него совета, но всегда сдерживался: «Я не маленький — сам знаю, как поступить».
Однажды, провожая Чумара до аила, парень не утерпел и спросил:
— Ты партийный?
— Давно член партии, — ответил Чумар. — Вместе с Адаром вступил.
Ярманка обрадовался. Партийные люди — против старых обычаев. Учитель поймет его и даст хороший совет. Смущаясь и робея, заговорил о Яманай.
Чумар внимательно выслушал его, а потом сказал:
— Ничего в том плохого нет, что она тоже из сеока Мундус. — Слова учителя лились плавно, тепло. — Старые сеоки — байская узда, которую богачи придумали для бедняков. Богатый алтаец из рода Мундус — тебе не брат. Все бедняки всех сеоков — братья. Такое время было в нашу молодость, что человека обычаи ломали, как буря сосну. Мне вот также хотелось жениться на одной… из нашего сеока, но… в то время таких смельчаков прутьями драли.
Он наклонился к парню и посоветовал:
— Не торопись. Ты еще молодой. Яманай обжилась у Анытпаса, может, и привыкла к нему… Не приноси в аил бедняка лишнее несчастье. Ты учись знай, учись и учись… А потом увидишь, как тебе лучше жизнь свою обосновать.
Ярманка вздохнул. «И Суртаев и Чумар — оба партийные, оба хорошие люди, — подумал он. — Совет у них один: учись… Я и так учусь… А Яманай как же? Трудно мне без нее жить».
6
Борлай почувствовал в Чумаре крепкую опору, не проходило дня без того, чтобы он не советовался с ним по делам товарищества.
Дни у Чумара были заняты тем, что он учил людей, а вечерами ходил с Борлаем по аилам, помогая налаживать совместную пастьбу скота.
Однажды он, добродушно улыбаясь, рассказал своему другу, что дома жена ворчит на него: и на охоту он не ездит, и дров не заготовляет.
— А ведь это правда, — заметил Токушев. — Ты, учитель, о работе много думаешь, о семье забываешь.
— А как же иначе? — возразил Чумар. — Что я знаю, все надо людям передать.
С тех пор Борлай стал один проводить беседы с членами товарищества, а Камзаеву настойчиво советовал:
— Бери винтовку и отправляйся на охоту. К утру семья ждет тебя с тушей косули.
Члены товарищества частенько собирались на лужайке. Когда Борлаю надо было в чем-то убедить их, он старался говорить гладко и вразумительно, как это умел делать Филипп Иванович, но обычно после первого десятка коротких фраз умолкал и задумывался: «Что еще сказать им?»
Нет, далеко ему до Филиппа Суртаева! Надо очень много учиться. Много думать.
Однажды зашел разговор о новом коне, и Токушев, кивнув на Утишку, сообщил собравшимся:
— Бот он каждый день ходит ко мне и просит жеребца на десять дней: «Я, говорит, свой табун отделю от общего».
— Да, так будет лучше! — нетерпеливо крикнул Утишка. — Пусть жеребец десять дней живет у меня, потом — у другого.
— Ишь ты, какой умный! — перебил его Содонов. — Дадут мне жеребца на десять дней, а он в эту пору не нужен. Тогда как?
— А в общем табуне тоже пользы мало, — буркнул Утишка.
— Не мне и не тебе его отдали, а всем вообще, которые в товариществе, — старался втолковать Борлай. — При таком положении забот тебе о жеребце меньше, а пользы больше.
— Правильно, — сказал Сенюш. — Добрые птицы всегда летают стаями, а в одиночку — только птицы-разбойники.
К аилам приближались всадники. Впереди ехал Тюхтень. Он первым слез с коня, степенно подошел к Борлаю и дружески предложил трубку.
Они сели.
— Старая береза вверх не растет, новых веток у нее все меньше и меньше. А у меня умных мыслей не стало, — говорил Тюхтень. — Худо я сделал, что в прошлом году отсюда откочевал и людей, у которых ум короткий и сердце баранье, за собой увел. Принимай назад.
— Здесь же злой дух… аилы ломает.
— Принимай, говорю, — настаивал Тюхтень. — У того духа две ноги, он у Сапога овец пасет.
— Тебе давно говорили об этом.
— У меня тогда ум помутился… Принимай, Борлай. Их тоже принимай, — глазами показал на своих спутников.
— Пусть ставят аилы, — крикнул Сенюш.
— Долина маленькая, тесно будет, — возразил Утишка, теребя самый пышный кустик бороды.
Борлай ответил твердо и уверенно:
— Проживем. Дружному народу не будет тесно. Да и не навек наша стоянка здесь. Скоро в Каракол спустимся, в самую долину, на хорошее место.
1
Всю зиму Анытпас провел в лесу. Он много раз облеплял кору толстых лиственниц мокрым снегом, изображая человека, а потом прятался за какое-нибудь дерево и подымал ружье, нацеливаясь в грудь. Без конца повторял, что метким выстрелом в сердце отступника Борлая удовлетворит желание всесильного и жадного Эрлика, но в дрожащих руках его стыла кровь — и пуля свистела далеко от лиственницы.
Раза три встречался с Шатыем. Старик проезжал мимо, не проронив ни слова, только посматривал на него косо. Во взгляде его Анытпас видел укор.
Весной, когда стригли гривы жеребят, пастух свил из лучшего волоса тонкий и длинный аркан, решив: «Из-за камня петлю наброшу и погоню коня во всю мочь».
Вспомнил, что по ту сторону хребта вот так же расправились с одним алтайцем, который поднял голос против богатых…
Растаяли снега, прошли буйные воды. Открылся путь через хребет. Тогда Анытпас, прячась около тропы, стал поджидать Борлая. Иногда ему казалось, что за ним кто-то наблюдает и вот-вот раздастся властный окрик: «Положи аркан!»
…Озираясь, он остановился за скалой, которая возвышалась над тропинкой.
Колени дрожали, ударяясь о бока заседланной лошади; зубы стучали. Руки долго не могли закрепить конец аркана, обмотанного вокруг седла и стремян, — а ведь он сотни раз умело закреплял его; когда ловил в табунах лошадей, не знавших узды, петля всегда с первого раза захлестывала лошадиную шею. Он не помнит случая, когда бы промахнулся.
«И сейчас не промахнусь… хотя руки одеревенели. Я выше брошу аркан, петля вовремя развернется и упадет прямо на голову».
Чуткое эхо повторяло шепот. Казалось, кто-то подслушивал. Оглянувшись, Анытпас решил: «Здесь плохое место… С тропы видно меня», — и погнал коня на гору.
Топот настигал его. Все яснее и яснее слышалось цоканье копыт.
Оставив лошадь в лесу, он спрятался в расщелине, поверх камней была только голова да правая рука. Сидел неподвижно, сдерживая дыхание.
Темнота сгустилась. Топот все ближе и ближе.
Кинулся к коню. Долго не мог развязать поводья. Выехал на тропинку и помчался вниз.
Навстречу шагом ехал всадник.
— Дьакши-ба, Анытпас! — приветливо крикнул Борлай. — Новости есть?
— Дьакши болзын! — ответил дрогнувшим голосом, проносясь мимо, и даже не заметил, что вместо «здравствуй» сказал «до свидания».
Скакал не оглядываясь.
Вспомнив все это, Анытпас облегченно вздохнул: «Придет удачный день, принесет в сердце смелость, и я все сделаю».