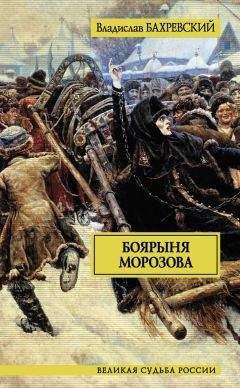И Никон ответил:
– Мы же хоть и недостойны патриаршего престола, но, исполняя звание и повинуясь Господу Богу, должны о вашем государском многолетном царствии, и о вашей государевой царице, и о сестрах ваших, и о всех, повинующихся вашему самодержавному царствию, молити всемогущего Бога, чтобы за тобою, пресветлым государем, благочестивое ваше царство воспрославилось и распространилось от моря и до моря. И воссияти тебе во вселенной, царю и самодержцу христианскому, яко солнцу посреди звезд.
На том церемония закончилась. Царь отправился во дворец, Никон – на патриарший двор, чтобы через малое время встретиться вновь за обеденным царским столом.
В конце пира Никон пошел от стола Красным крыльцом к церкви Благовещенья и, сойдя с паперти, сел на ослю и совершил шествие вокруг Кремля и Китай-города. По возвращении в палаты он был пожалован царем серебряным кубком, десятью аршинами золотого атласа, и десятью аршинами камки, и сорока соболями.
Так началась эпоха Никона, столь жданная государем и столь ему желанная. Безвременью и безволию в Московском царстве пришел конец.
Царица Мария Ильинична с царевной Татьяной Михайловной, со своей крайчей Анной Михайловной Вельяминовой, сестрой Федора Ртищева, да с приезжею боярыней Федосьей Прокопьевной разбирали для шитья жемчуг.
Они сидели за круглым столом. На покрывале из черного бархата было насыпано фунтов десять жемчуга. Конечно, это был не гурмыжский, из персидского царства. За нитку гурмыжского жемчуга купцы брали по двести рублей. Огромные деньги! Иная жемчужина сама по себе клад, по пятнадцати, по двадцати, по пятидесяти рублей!
Жемчуг на царицыном столе был свой, добываемый в русских реках.
– Почем нынче зерна? – спросила Мария Ильинична, обращаясь к Федосье Прокопьевне.
Та растерянно улыбнулась.
– Давно я на торгу была.
– За шестьдесят зерен по тринадцати алтын берут, – сказала Анна Михайловна. – Но тот мельче.
Она повела ладонью по жемчужинам, ловко раскатывая на кучки: белый к белому, розовый к розовому, голубой к голубому, вылавливая редкие черные зерна.
– Очень красивый жемчуг, – сказала Татьяна Михайловна, – почти весь окатный. Половинчатого совсем нет, и уродцев мало. Откуда это, из Ильменя или с реки Варзуги?
– Да нет! Тут с разных сторон. Из Соли Вычегодской, из озера Прорва, из Кандалакши, Селигера, Меты. А порченый слуги уже отобрали.
– А я уродец нарочно посылаю покупать, – сказала Татьяна Михайловна. – Мои комнатные девки его трут в порошок и в белила добавляют. Вот гляди-кась! – И царевна выставила напоказ одну и другую щечку, набеленную, но столь тонко, что и своя собственная краса через деланую просвечивала.
– А я-то все завидую твоим белилам! – призналась Федосья Прокопьевна. – А они вон на чем.
– Домой будешь уезжать, я тебе отсыплю. А саккос одним белым надо изукрасить, – сказала Татьяна Михайловна. – Белый все-таки самый благородный.
Саккос предназначался для Никона. Царица вознамерилась поднести его патриарху перед Пасхой, чтоб на праздничной службе патриарх блеснул обновой.
– Отдохнем, – предложила царица, поднимаясь. – В глазах уже рябит.
Подошла к иконам, хотела перекреститься да и вспомнила про Никонову «память», которую уже рассылали по всему царству.
– Ну-кась, как это? Научи! – Мария Ильинична подала руку Федосье Прокопьевне.
Та сообразила, что от нее хотят, и, пригнув два выставленных царицыных пальчика, указательный и средний, присовокупила к ним большой.
Царица с сомнением поглядела на свою руку.
– Пускай сам этак молится! – Подняла два пальца. – Этак-то величавее!
– А по мне, в три перста удобней! – возразила Татьяна Михайловна. – Константинопольский патриарх Афанасий, что на днях приехал, благословил Никона за троеперстие. В греческой стороне все так молятся.
– Ну, не знаю! – сердито сказала царица. – В два перста все предки наши молились и были святы. Теперешним грекам перед Русью заноситься-то больно нечем. Да только мы сами дураки. У всякого Якова готовы учиться. А уж давно пора, и грекам особенно, пример с нас брать. Наше благочестие ихнему не чета, они двести лет под басурманами.
– От дворовых я слышала… – вставила словечко Федосья Прокопьевна да и прикусила язычок.
– Ну чего уж там, говори!
– Прости, матушка-государыня! – Федосья Прокопьевна зарделась. – Не про все ведь надо языком лаять, что в уши набилось. С языка слетело.
– Гляжу, и ты у меня дворцовым мудростям научилась! – обиделась царица.
– Ох, Господи! Да скажу я! Скажу! Хоть и дерзкие больно слова. Дворовые говорят, что патриарх кукишем велит креститься. – Сказала и затаилась, ожидая гневного окрика.
Мария Ильинична сложила пальцы по-новому.
– Похоже ведь… Чего нам в покое не живется?
– Так ведь неправильное было знамение, – сказала холодное, но уместное Анна Михайловна. – На самом Афоне в три перста крестятся, и в Киеве, и сам константинопольский патриарх.
– Твой константинопольский патриарх сломя голову в Москву прибежал. Султан-то его чуть не вздернул. – Царица грозно повела глазами. – Константинополь Москве – не указ.
Анна Михайловна смиренно поклонилась.
– Истинная правда, матушка-царица. Я ведь что говорю! Как наш пресветлое солнышко государь скажет, так и будет.
Царица вздохнула. Алексей Михайлович совсем переменился. По ночам книжки читает, махонькую тетрадочку завел, тайные записи записывает.
И еще раз вздохнула – креститься Алексей Михайлович стал по-новому. Когда не забудется. А как забудется, как душой с молитвою сольется, так уж и по-старому.
Протопопица Анастасия Марковна с чадами Иваном, Агриппиной, Прокопкой до Москвы добиралась, слез попусту не роняя. Путешествие было – Господи помилуй! Ивану восемь лет, Агриппине – семь, Прокопке четыре. Без денег, без харчей… Подаянием кормились.
Протопопа своего Анастасия Марковна сыскала в Казанском соборе. Аввакуму Неронов не обрадовался, но закуток для него выделил, разрешил служить, подменяя попов. Большего сделать для земляка не мог. Стефана Фонифатьевича бегство Аввакума из Юрьевца огорчило и рассердило. Жить без места – нахлебничать. Аввакум собрался к патриарху. Никон вальдемановский, родное село Аввакума Григорово от Вальдеманова в семи верстах. Не просто земляки, соседи.
На подворье Новгородском протопоп святейшего не нашел. Никон ставил патриаршьи палаты на месте двора царя Бориса, часть комнат для жилья были пригодны, и патриарх переехал в Кремль.
Увы! К святейшему Аввакума не пустили. Новый патриарх – новые порядки. Теперь всякий поп, получая место, должен благословиться у святейшего. Очередь на утверждение была огромная. Иные стояли по месяцу и больше.
Аввакум отправился к Стефану Вонифатьевичу.
А тот постарел, потишал.
– Подождать надо. Никон ныне уж очень суров. Искушение властью. Натешится – пообмякнет. Ладно! Государю о тебе скажу. Но тоже не теперь. Теперь нельзя, государь не станет слушать. Для него Никон – человек правды. А дела-то у государя зело государственные, наитайнейшие.
Об этих наитайнейших делах Борис Иванович Морозов приезжал говорить с Федосьей Прокопьевной. У боярыни ум здравый, и человек она свой.
– Алеша у меня был, – доверился Борис Иванович своей любимице. – От гетмана Богдана Хмельницкого послы пожаловали. Гетман Войска Запорожского просится со всеми землями, с городами под государеву царскую руку. А это война с Речью Посполитой.
Федосья сидела у стола, на столе книги, как когда-то у ее учителя.
Открыла Евангелие, прочитала:
– «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех».
– Это ты о чем? – спросил Борис Иванович.
– Мышке жить возле медведя надежней. Лиса не подойдет, енот тоже не осмелится… А от войны все одно никуда не денемся. На днях видела государя в броне, в шлеме. Марии Ильиничне показывался. Царице муж-воин пришелся по сердцу.
– Говоришь о войне без страха, как о деле сбывшемся! – Борис Иванович выглядел озабоченным.
– Войне быть, но покуда, слава богу, мир… Тебя, Борис Иванович, государь слушает.
– Слушает. Одним ухом, – признался ближний боярин.
– Пусть одним, но слушает… Много чего впереди, – усмехнулась Федосья Прокопьевна. – Государь души не чает в новинах. Сегодня стояла обедню в Успенском соборе, а будто в Киеве была. Певчие поют, как в Малороссии, попы служат по-киевски, владыку и царя славят на греческом языке.
– Хорошее перенять у восточных патриархов не грех, – сказал Борис Иванович. – У них христианство старее нашего чуть ли не на тыщу лет. Москва – пятая. Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Мы – пятые.
Федосья Прокопьевна взяла одну из книг со стола, поднесла Борису Ивановичу.
– Ты читал Никонову «Следованную Псалтырь»?