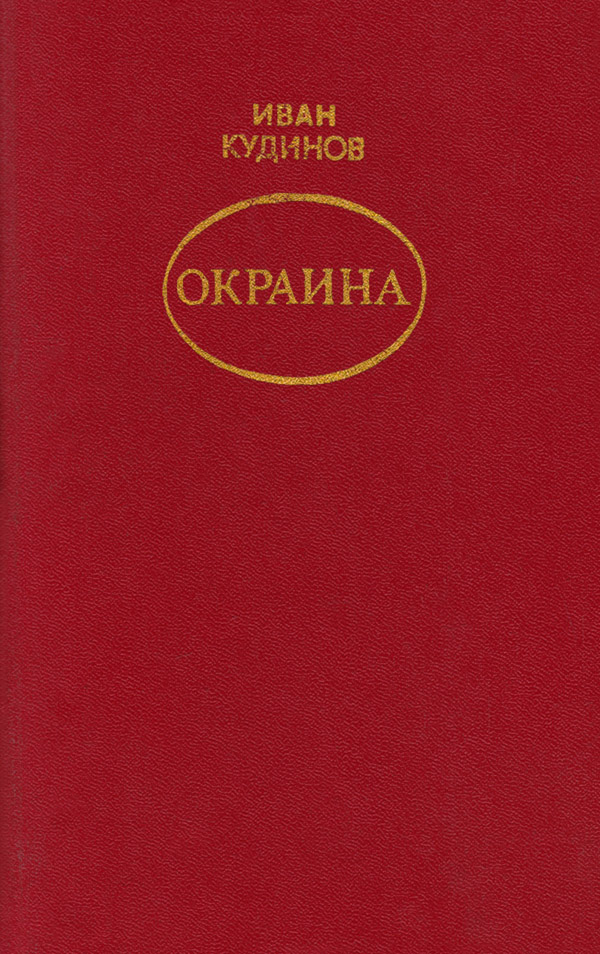отец Бальбуциновский, я его хорошо знаю. В первое воскресенье и отслужим.
— Да ведь первое воскресенье — завтра.
— Вот завтра и отслужим.
На другой день, после вечерни, в Куртинской кладбищенской церкви была совершена панихида по расстрелянным бездненским крестьянам. Народу собралось сотни три, студенты университета и духовной академии. Было тесно, душно, трескуче горели в паникадилах свечи, кроваво-багровые отблески трепетали на святых ликах, смотревших мученическими глазами с какой-то недосягаемой высоты…
Служба совершалась торжественно, двумя священниками — настоятелем Бальбуциновский и первокурсником духовной академии Яхонтовым. Царские врата были распахнуты, и могильным холодом обдавало собравшихся. Яхонтов стоял рядом с Бальбуциновский, маленький, с бледным одухотворенным, полным пророческой страсти лицом. Студенческий хор спел панихиду. И взволнованный, охваченный лихорадочным ознобом Щапов поднялся на амвон; широкоплечая, громадная фигура его на фоне освещенного, точно пылающего иконостаса выглядела внушительно.
— Други! — сказал он, выдержал паузу, полную печальной возвышенности, и продолжал: — Други, нечеловеколюбиво убиенные, мы вас помним! И говорим сегодня: сам Христос завещал народу равенство и братство, искупительную свободу… Но где они, эти равенство и братство, где свобода? — Он перевел дух, и голос его еще какое-то время звучал в гулком пространстве, отдаваясь эхом. — Среди забитого безграмотностью, бесправного российского народа немало появлялось мнимых Христов, которые возвещали освобождение от рабского своего, страдальческого положения. Эти мнимые Христы с половины XVIII века стали называть себя пророками, искупителями народа, будучи душой и плотью связанными со своим народом… Они были не только пророки, но и кровные его сыны. И вот явился новый пророк, толкователь истины, бездненский крестьянин… Он возвещал свободу, за что и поплатился жизнью. И повлек за собою много жертв, братьев своих по духу и по несчастью. В чем их вина? Только лишь в том, что ограниченное государственное положение оказалось им недоступным? Только лишь потому, что они хотели жить по-человечески? — гремел голос Щапова, дрожало пламя свечей, и запах тающего воска наполнял воздух. — Мир праху вашему, бедные страдальцы, и вечная вам память! Да успокоит господь ваши невинные, светлые души. И да здравствует свобода, даруемая вашим живым собратьям!..
Трудно было сдержать слезы, и многие плакали. Расходились большими группами. Много было сказано в этот вечер горячих, клятвенных слов. А город жил своей привычной и нерушимой, казалось, жизнью: светились окна благородного собрания, играл духовой оркестр, давали воскресное представление в театре…
— Мир не содрогнулся, — грустно сказал Щапов провожавшим его Шашкову и Яхонтову. — И все-таки есть люди, в этом я сегодня воочию убедился, есть силы, которые способны разбудить этот сонный, этот равнодушный мир…
* * *
Назавтра известие о панихиде в Куртинской церкви дошло до военного губернатора, мигом облетело весь город. Генерал Козлянинов немедленно и «весьма секретно» телеграфировал министру внутренних дел. Уведомили Синод, шефа жандармов. Телеграмма вызвала смятение в Петербурге — нет, не расстрел почти сотни невинных крестьян апраксинской гвардией обеспокоил правительственные верхи, а скромная панихида в кладбищенской церкви… Доложили царю. Александр, мучившийся накануне животом (государь страдал хроническими запорами), бледный, осунувшийся, с синеватой отечностью под глазами, внешне спокойно выслушал доклад, уточнил кое-какие детали, в частности, его заинтересовало содержание речи профессора Щапова. Однако этого не знали, и царь, нахмурившись, сердито сказал:
— Так узнайте! В чем дело?
Телеграфировали в Казань. Оттуда сообщили: архиепископ требовал речь, Щапов отказался дать; жандармы тоже не дознались. «Ждем дальнейших указаний». Обер-прокурор Синода Толстой проявил весьма завидную оперативность: во второй половине апреля для производства следствия в Казань отправился обер-секретарь Синода Олферьев, по пути заехавший в Москву, где получил подкрепление в лице представителя духовенства. Митрополит Филарет, обеспокоенный случившимся, отрядил для столь важной миссии давнего своего приверженца настоятеля Даниловского монастыря Иакова, снабдив его вопросником, состоящим из сорока пунктов.
Царь, в свою очередь, не удовлетворился предпринятыми мерами и велел направить в Казань генерал-адъютанта Бибикова. Последний уже через несколько дней имел беседу с попечителем Казанского университета князем Вяземским, интересовался личностью Щапова, его отношениями со студентами, содержанием его лекций по истории… Сказал, что Щапова следует немедленно арестовать. Вяземский воскликнул:
— Ни в коем случае! Нельзя этого делать.
Бибиков удивился:
— Вы против ареста?
— Нет. Но поймите правильно: я только хотел сказать, что не следует Щапова арестовывать здесь, в Казани, это может повлечь за собой нежелательные последствия… Слишком велик авторитет у Щапова среди студентов.
Бибиков задумался. Настаивать не было смысла, ибо любое осложнение могло обернуться против самого генерала.
— Хорошо, — сказал Бибиков. — Будем искать другой выход.
И выход был найден: под негласным надзором Щапова решено было сопроводить пароходом до Нижнего, там и арестовать.
Вяземский пригласил Щапова к себе вечером, в пятницу, повел разговор издалека, поинтересовался настроением. Щапов усмехнулся:
— Мое настроение вам известно.
— Мне докладывали, что вы хотели съездить в Москву и Петербург для ознакомления там с методами лучших профессоров? Не раздумали?
— Нет. Но…
— Вот и поезжайте, — не дал ему договорить Вяземский.
Щапов снова усмехнулся:
— Понимаю. Когда прикажете выехать?
— Ну что вы, Афанасий Прокофьевич, я вам не приказываю, а дружески советую. Так лучше будет для вас…
— Хорошо, — согласился Щапов. — Когда вы мне советуете выехать?
Вяземский, помедлив, сказал:
— Да завтра же, Афанасий Прокофьевич, и выезжайте. Зачем откладывать? Прогонные получите. Билет на пароход закажут.
— Благодарю, вы очень добры ко мне.
— Надеюсь, все обойдется, и случай этот будет расценен не более, как безобидное недоразумение.
— Вы считаете этот случай недоразумением? — спросил Щапов.
Вяземский протянул руку:
— Не держите на меня зла, Афанасий Прокофьевич, и примите самые лучшие мои уверения…
* * *
Двадцать девятого апреля Щапов пароходом отправился в Нижний. Стояли теплые дни пасхальной недели. Утром профессорская «келья» в академическом флигеле была битком набита. Пришедшие проводить его студенты теснились и в коридоре, и на крыльце, и подле флигеля на лужку, уже покрытом ранней весенней зеленью. Прощание было грустным, точно всем было ясно, что вернуться в Казань Щапову уже не доведется.
Студенты проводили его до Подлужной слободы, а там уселись в загодя приготовленные лодки — и необычная эскадра двинулась по разливу Казанки, к пристани, где уже начиналась посадка на пароход. Кто-то из сидевших рядом, кажется Яхонтов, затянул песню, его поддержали, подхватили на других лодках, и песня понеслась от Подлужной слободы на пристань, а оттуда еще дальше, за Волгу. Щапов вместе со всеми пел:
Вот по Волге-реке, к Нижню-городу,
Снаряжен стружок, как стрела летит.
А на том стружке, на снаряженном,
Удалых гребцов двадцать два сидит…
Все остальное было, как во сне. Объятия. Пожелания. Слезы. Грохот убираемого трапа. Гудок парохода. И чей-то