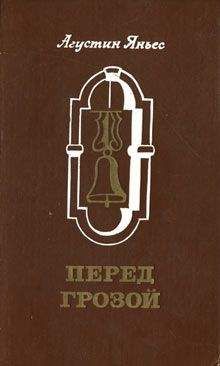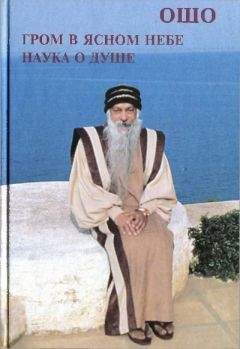— Весь-то святой день раздавались удары молотком в мастерской дона Грегорио.
Наш господь воскрес.
Как все угадывает Лукас Масиас? Он один заподозрил, что угнетает дона Тимотео, — и тот и священники, желая избежать преждевременных пересудов, старались, чтобы не распространилась весть о возникших затруднениях, а Лукас Масиас уже дает понять, что он все знает.
— …ничегошеньки не добились ни просьбами, ни угрозами, да и как тут добиться, ежели это против предписаний нашей святой матери церкви? Сеньору священнику обещали все, чего пожелает, и говорили ему, ну можно ли зарыть, будто собаку, дона Селестино, не внося его останки в церковь, не отслужив по нему добрую мессу и не помолясь за покойного? Ведь он же не был еретиком! Дон Селестино всегда славился набожностью и человеколюбием. Какое пятно легло бы на его семью и на всех его потомков, ежели вот так, ни за что ни про что. опозорить память достойнейшего христианина, за которым не числилось никакой вины, кроме того, что богу захотелось призвать его в царствие свое именно под сочельник. Тщетно пояснял сеньор священник, что вполне допустимо отложить. похороны на одни сутки, потому как нельзя служить мессу по покойному, нельзя вносить мертвецов в церковь, нельзя читать по ним молитвы в такие дни, как рождество, и что так было предписано давным-давно и повсюду, что это отнюдь не чья-то злая воля; однако эти Корнехо — а они всегда были отменно упрямы, твердолобы — никак не хотели взять в толк: пусть так, пусть так, но все надо сделать в тот день, в какой положено, потому что ни они и никто не повинны в том, что дон Селестино умер именно в такой день, и что поэтому они принесут его в церковь и добьются, чтобы по нему отслужили мессу — самую наилучшую, какие только есть, и что для этого у них найдутся деньги, ведь они всегда были такими добрыми католиками…
(Дон Тимотео невольно начал производить подсчеты, во что ему обойдется кончина жены.)
— …и спор все ожесточался, поскольку Паскуалю Корнехо, сынку покойного дона Селестино, ударило в голову выпитое вино и гордость в нем взыграла, а этот Паскуаль был парень бедовый и горячий — он воевал в войсках генерала Маркеса[74] и бахвалился, что самолично расстрелял каких-то бродяг, — говорят, это были лекари, в селении Такубайя, а когда победил Хуарес, то он скрывался на ранчо, и никто его не нашел, пока не началось правление дона Себастиана[75], — так вот этот Паскуаль, возбужденный вином и гордыней, потерял терпение и с пистолетом в руке направился в церковь, чтобы припугнуть сеньора священника; а им в ту пору был очень славный старикашечка, сеньор священник Роблес, Хосе Асунсьон Роблес, которого еще после сделали каноником и потом он умер в Гуадалахаре; этот сеньор священник дал мне первое причастие, я его хорошо помню, он был говорун, посещал всех в селении, и когда выпал ему случаи посетить святую землю, он оттуда привез множество реликвий и все роздал прихожанам; мне достались четки, которыми прикасались к святым местам, не помню, где и когда я их потерял, — так вот этот Паскуаль со своими замашками вояки, взяв пистолет, направился в церковь, но сеньор священник Роблес оказался не робкого десятка, да еще собрался народ, наглеца попытались обезоружить, и чуть было не случилось тут убийства, но все же священник настоял на своем. Мессу служить не стали, и этим Корнехо пришлось продлить бдение возле покойного еще на одну ночь, а поскольку мер предохранительных они не приняли, то труп стал разлагаться, и было такое зловоние, что его никто не мог вынести, и вторая ночь бдения, — а я там находился, — была сплошной ужас, даже родственники не знали, куда деваться, а потом гроб несли пеоны, они завязали себе рты и носы тряпками, вымоченными в спирте, и церковь настолько пропиталась зловонием, что ее пришлось дезинфицировать, — вот если бы перед тем, как заколотить гроб, бросили бы в него извести да формалина…
(Дон Тимотео испытывает чувство стыда, и всегда будет испытывать это чувство, — почему именно в эти минуты он вспомнил жену в первую брачную ночь и в день, когда она родила Дамиана, именно в эти минуты, во время одевания покойницы, и после, когда она лежала на одре и он подхватил ее за бедра, укладывая в гроб?)
— …сеньор священник Роблес из тех, кто не верит, что мертвые являются нам, если оставляют неоплаченные счета или зарытые клады или если их не отпевают в церкви, однако я знавал множество людей, неспособных врать, и они уверяли, что с ними говорили покойники: мне сказали об этом дети, которые этих покойников не знали, но описывали их точно, и мужчины, которых от страха пробирала дрожь, и женщины, которые при виде призраков падали в обморок; по правде говоря, я сам никогда не видывал призраков, а живал и в таких домах, где, по слухам, они водились и пугали людей; однажды ночью, припоминаю, живя в том доме, что принадлежал покойному Маргарите Пересу, а он приходился дедом Луису Гонсаге, пришлось мне идти в загон для скота, и увидел я белую тень, которая мне делала знаки, чтобы я, значит, подошел, и вот тут-то задрожали у меня коленки, и не знаю, то ли бежать мне, то ли заклинать ее: «Во имя господа прошу тебя, если ты из мира сего или с того света…» Что за паскудство! — сказал я сам себе, не побегу я, что бы ни случилось, и пусть хоть сердце разорвется на кусочки, заговорю с ней, за каким сокровищем она явилась; подошел поближе, и вдруг взлетела курица, которая на разостланном белье пощипывала себя под крылом, а ведь казалась головой призрака, подзывавшей меня…
(Дон Тимотео, продолжая ходить взад-вперед, шевелит губами, будто читает молитвы, вернее, отдельные фразы из молитв, но, похоже, думает он совсем о другом, далеком от того, что шепчет, повторяя снова и снова…)
— …мало ли чего хотели эти Корнехо, им не следовало думать, что по их желанию будут нарушены законы нашей пресвятой матери церкви, вот и пришлось им подождать денек со своим покойничком…
Дон Тимотео, уже не скрывая своего возмущения, обращается к Лукасу Масиасу.
— Будет лучше, если ты отправишься в церковь, — говорит он ему.
Старик покорно поднимается со своего моста и робко спрашивает:
— А в каком часу похороны, чтобы успеть вернуться?
Во взгляде дона Тимотео сверкают молнии, губы его искажаются в судорожной гримасе, он бормочет:
— Не знаю… зависит от того, когда придет Франсиско.
Однако хорошо, что он услышал повествование Лукаса с косвенными намеками в адрес их семьи, хотя этого Лукаса он с удовольствием стер бы в порошок, — теперь из уст в уста распространится слух: «Поскольку сегодня день воскрешения, то донью Тачу не понесут в церковь для отпевания и придется подождать до послезавтра: однако что может натворить Дамиан при его бешеном нраве, когда ему об этом скажут? Но как ни крути, ничего не получится, придется подождать, не понесешь же на кладбище без отпевания и без заупокойного звона, будто она и не христианка».
Какое утешение в этой ясности, в этом утреннем многоголосье, сколько радости от солнечных лучей и колокольного благовеста — после изнуряющих бессонных ночей.
— Жар у него спал, и он сейчас спокойнее, — говорит Марта. И донья Кармен Эспарса-и-Гарагарса де Перес подтверждает ее слова.
__ Сколько трудов нам стоило удержать его — он все рвался пойти на мессу, — говорит одна.
— Похоже, что он до сих нор не пришел в себя, — откликается другая.
На рассвете я должен был умереть. Знаком он показывает, чтобы ему придвинули требник, с которым он обычно ходил к мессе.
— Тебе будет хуже, если станешь напрягать глаза, — говорит донья Кармен.
Но больной не понимает ее слов и начинает волноваться. И его желание исполняют, как всегда. Па рассвете, когда освящается новый огонь. Вспоминает рассветы пасхальной субботы. Слулшой он помогал в церкви, — было еще темно, предутренние сумерки и особое очарование древнего таинства, — помогал разжигать с помощью огнива, кремня и трута новый огонь и чувствовал себя перенесенным в далекие эпохи, в начало мира и времени, к преддверью пророческих лет. Я родился бы, словно свет. Мою душу разожгли бы, как угли в кадиле, как новую пасхальную свечу, как три таинственные белоствольные свечи, зажженные одна от другой, в процессии, шествующей от церкви, тогда как голос поет «Lumen Christi», чистый и свежий голос в новой церкви, в новом мире, и кажется, что душа преклоняет колени, вступая сюда, вторгаясь сюда, вновь разгораясь. «Незажженная пасхальная свеча есть образ Христа, положенного во гроб; зажженная свеча — образ Спасителя, освещающего мир сиянием своего воскресения, как огненный столб, что осветил путь…» — «Не читай, тебе будет хуже». — «Оставьте меня, уходите все отсюда». Ему никогда не перечили.