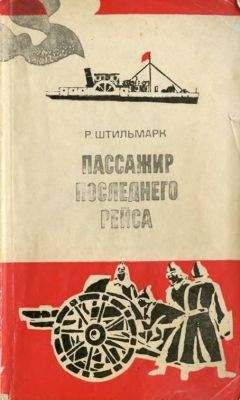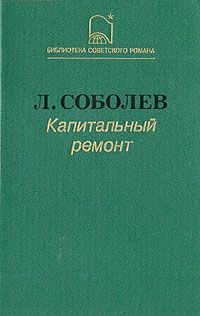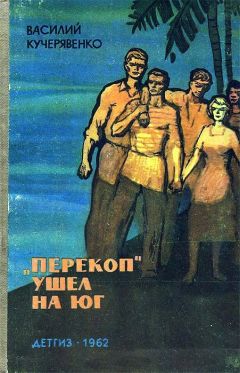Владимир Данилович Дементьев, сын яшемского рыбака, был назначен капитаном на самолетский пароход уже при Советской власти. Прежнее начальство не благоволило к политически неблагонадежному судовому командиру.
За выздоравливающим капитаном ухаживала жена, Елена Кондратьевна, бывшая Сашкина учительница. Ее не было дома, когда Дементьев сел за чертеж речного буксира, превращенного в канонерскую лодку. Дементьев посылал свои проекты в штаб Восточного фронта, получил указания о доработке. Свой вынужденный отпуск он и решил, невзирая на протесты жены, использовать для проектирования. Ведь первые действия под Казанью волжской военной флотилии, созданной из подобных судов, прошли успешно. Этот опыт надо изучить и расширить. Сильнее укрепить фальшборты буксиров, кое-где приклепать стальные полосы к стенкам наподобие брони… Эх, заполучить бы с Балтики или хотя бы Каспия нескольких матросов-артиллеристов с боевым опытом!..
На крыльце что-то зашуршало. Не супруга ли возвращается? Нет, видимо, там человек чужой. Тень его падает на оконце в сенях, но странный гость будто прирос к двери и затаился.
В сенях прислонен к стене отлично отточенный топор. Дементьев потянулся за ним, но уловил из-за двери не то вздох, не то стон. Сходить, что ли, в комнату за револьвером или открыть?
Дементьев отодвинул засов, но дверь не поддалась. Словно кто-то решил не выпускать хозяев на улицу.
Владимир Данилович нажал на дверь сильнее — и почти к ногам его рухнул на порог человек в латаной одежде, худой шапке и рваных солдатских ботинках трофейного происхождения.
К удивлению своему, капитан узнал односельчанина. Странный гость оказался трезвым, но почти не мог держаться на ногах.
Когда домой вернулась Елена Кондратьевна вместе с прислугой, на кухне вопреки обыкновению была уже истоплена печь, пахло жареным тряпьем и банным духом. А в столовой сидел бывший ее ученик Саша, бледный, страшно исхудавший, облаченный в капитанский китель и форменные брюки. Капитан угощал гостя ужином собственного изготовления. Владимир Данилович был очень взволнован и сказал жене, что парня нужно поставить на ноги поскорее.
Сама же она должна, не теряя часа, выехать на лошади в Кинешму и там опустить письмо, адресованное в подмосковную летную часть, причем никто во всей Яшме не должен это письмо видеть…
Дня через три после ее возвращения из Кинешмы был еще слух от почтарей, что капитана Дементьева Москва вызывала к телефону. Слышно было из рук вон плохо — кажется, первый раз Яшма с первопрестольной говорила. Только разговор у Дементьева до того непонятный с Москвою получился, что ни телефонистка, ни телеграфист, ни почтари пересказать сельчанам ничего не сумели. Верно, Дементьев все о канонерках своих хлопочет, а сплетницам яшемским в этом деле никакого интересу нет.
Но уж вот над воскресшим Алексашкой довелось им посудачить всласть! Правда, с виду он даже поокреп в доме капитана Дементьева, даже духом повеселел вроде, однако ни в какую ячейку партейную не ходил, как поначалу грозился. Надоел ему, видно, чужой хлеб! Прямехонько явился к брату Ивану, покаялся: мол, хватил беды на чужой стороне, принимай, Иван, обратно! Дома и стены лечат!
Брат Иван, конечное дело, обрадовался, что даровой работник воротился, выпивка у них была большущая. А вскоре сел Сашка на конька доброго и обычным манером подался вниз за конями. Говорили, что он их из Области Войска Донского, что ли, пригнать взялся для монастырского хозяйства.
3
Вид из окна на кинешемский бульвар стал безрадостным. Из-под сугробов видны лишь спинки садовых скамеек, а по дорожкам, вдоль голых лип, разгуливают одни ветры. Злыми налетчиками нападают они из-за Волги на притихший город. Занесенная река похожа на мертвую степь, где родятся бураны. На ее страшном просторе издалека чернеют унылые вешки вдоль тропок да пятна прорубей, откуда возят теперь воду. Вон они, укутанные в шали и платки, ползут женщины с саночками по крутому съезду, шаг за шагом подтягивая салазки с кадушками, боятся расплескать трудно добытую из Волги воду.
Борис Сергеевич Коновальцев всего пять месяцев назад окончательно перебрался в Кинешму. И улицы, и набережная, и бульварчик кажутся ему убогими после Ярославля. Но старейший на Волге город-красавец разрушен, и лучшие его жители рассеяны по стране, как и семья Коновальцевых. Старший сын, поручик Николенька, убит красными во время июльской грозы. Дочь уехала к мужу в Москву, а сам Борис Сергеевич с супругой Анной Григорьевной пока осели в Кинешме до времен лучших.
Кинешемские родственники, приютившие у себя чету Коновальцевых, почли за благо добровольно самоуплотниться, уступив супругам две комнатки окнами на бульвар и отдельное место на общей кухне. Все же свои люди, не какие-нибудь пролетарии всех стран…
Анна Григорьевна ухитрилась вчера в темноте купить возок угля, ворованного на станции. Все были уверены, что Анне Григорьевне подсунули «липу» и все бранили ее за легковерие. А оказался настоящий уголек! Есть ведь даже у жуликов своя совесть! И нынче Борис Сергеевич блаженствует. Растопил печку-буржуйку, добытую на рынке. За печку взяли недешево, пуд муки, но печка — роскошная! Верно, из какого-нибудь графского имения. Круглая, как бочоночек, вся литая из чугуна, с бронзовыми украшениями, колосниками под уголь и скульптурным орлом на крышке. Птица раскрыла хищный клюв и распластала никелированные крылья, готовая вот-вот ринуться на жертву.
Графская печка дала такое тепло, что оконные стекла не слезятся, просохли. Борис Сергеевич глядит на бульвар и на снежные заволжские дали. Из кухни, где хлопочет Анна Григорьевна, пахнет — чем-то вкусным. По случаю воскресного дня не нужно идти на службу. Супруги карточек ради устроились служить: Борис Сергеевич преподавателем хорового пения, до коего он великий охотник, в здешней «муздрастуде», то есть музыкально-драматической студии при клубе, а Анна Григорьевна — секретарем в совтрудшколе. Значит, стала шкрабом — школьным работником…
Борис Сергеевич придвинул кресло поближе к окну и благодушно следил, как, минуя вешки и проруби, ползет по снежной тропке крошечная человеческая фигурка. Поеживаясь в сладкой истоме, Коновальцев уютно философствовал: вот, мол, чернеет среди снегов козявочка, не разберешь даже, мужчина или женщина, а ведь тоже небось сердчишко у нее бьется, в голове какие-нибудь мысли роятся, в тепло ей охота, но гонит ее, козявочку, какая-то житейская надобность, и ползет она, болезная, в человеческий муравейник, город Кинешму… Борис Сергеевич даже поднес к глазам бинокль — единственную вещественную память о сыне-артиллеристе.
В бинокль видно — мужчина. Бородат. Папаха. Котомка за спиною. Вдавил голову в плечи, хоронится от ветра…
Неизвестно, что именно привлекло внимание Бориса Сергеевича к скромной фигурке, но провожал он ее взглядом до тех пор, пока человек с котомкой за плечами не исчез из виду, скрытый краем берегового откоса. Борис Сергеевич тотчас забыл о путнике и задремал. Ему пригрезилось, что он снова управляющий зуровского поместья Солнцево. Кругом лес. И вырастает перед ним высокая башня, откуда вот-вот ринется вниз орел с никелированными крыльями. Уже и клюв раскрыл… Из клюва истекает настойчивый звон… Трень-трень… Орлиный клюв звенит совсем как дверной колокольчик на кухне…
Очнулся. Прислушался. Хлоп — кухонная дверь.
Чужой голос с хрипотцой спрашивает про Коновальцевых… Шаги по коридору…
— Войдите!
Через порог переступает слегка запорошенный снежной пылью бородатый человек в папахе, с котомкой за плечами.
…Встречу бывшего управляющего с бывшим адъютантом нельзя было назвать сердечной. Анна Григорьевна сидела за столом с поджатыми губами. Ведь бедный Николенька зарыт в глинистой почве брошенного ярославского окопа, а вовлекший мальчика в эту безумную авантюру Михаил Стельцов снова явился в дом, на сей раз к мужу. Опять заговорщицкие планы? И как только сумел так быстро отыскать нас в Кинешме? Искал наших родственников, нашел нас самих. Счастлив этой удаче, уплетает за обе щеки и поглядывает, что налито в графинчике… Простая вода из Волги, да-с!
После обеда хозяин и гость ушли в спальню. Анне Григорьевне все слышно в столовой, а в коридор ничего не доносится.
— Ну рассказывайте… Откуда к нам?
— Это, знаете ли, длинная история.
— Да ведь кое-что известно из газет. Вы, что же, участник солнцевского дела?
— Участник.
— Н-да, жаркую вы там учинили баню. Ни села, ни жителей, ни посевов. Даже рощи вокруг села выгорели. Пустыню, стало быть, изволили по себе оставить? Ну-с, а обстрел парохода «Князь Василий Шуйский» и ранение капитана на мостике — тоже ваш подвиг?
— Наш.
— Все это, знаете ли, похоже на эдакие жесты безнадежного отчаяния. По моему разумению — нехорошо-с! Сеете ненависть, беду сами пожнете. Ни к чему благому не приведет!