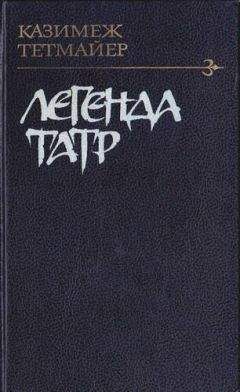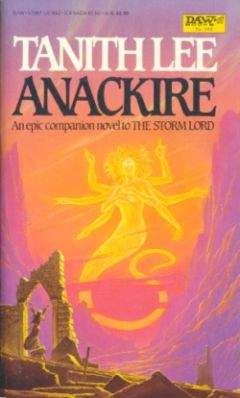Как жалела она тогда, что не бросилась в темное озеро, над которым проходила, чтобы навеки уснуть в его глубине!
Ах! И теперь она об этом жалеет, жалеет, жалеет!..
Марина стала гладить ее по голове, а она все плакала.
«Из-за тебя»… Таковы были последние слова пана Костки. Гордость ее привела его к казни. Если бы она не оттолкнула его, как отец, как княгиня, ее тетка, как Сенявский, сын воеводы, он не убежал бы из замка Гербуртов в горе, отчаянии и гневе, не замешался бы в крестьянский бунт и не случилось бы это страшное несчастье… Все из-за нее… Она должна была родить ему детей, а родила — смерть.
— Пан Костка хотел спасти мужиков, — сказала Марина. Она не видела в темноте, с каким недоумением остановились на ней глаза Беаты.
И Беата продолжала плакать и прижималась к Марине, целуя ее руки, обнимая колени, умоляя, чтобы Марина с братом защитили ее, чтобы не выдавали ее ни в руки Сенявского, ни в руки отца. Обещала наградить их щедро, когда после смерти отца унаследует его богатства, и укрывалась в объятиях Марины.
Открылась дверь, и Собек спросил:
— Не спите?
— Нет, — ответила Марина. — А ты, брат?
— Не могу заснуть, пока что-нибудь не решится. Пожалуй, придется всем Топорам уходить отсюда куда глаза глядят. У одного пана Сенявского, слышал я, больше войска, чем у нас здесь мужиков в тридцати деревнях. Уйдем, как ушли зегльчане всей деревней с войтом в Венгрию от тиранства своего пана.
— Шесть тысяч войска у Сенявского, — прошептала Беата.
— Да еще удастся ли уйти, — сказал Собек.
Помолчали с минуту, и затем Марина сказала глухим, словно чужим, но твердым голосом:
— Топоры останутся в Грубом.
— Я-то останусь наверное, только мертвый, — с серьезной и спокойной покорностью сказал Собек.
— Нет.
— Что же ты думаешь, сестра? Живого меня не уведут ни из дому, ни от вас обеих.
— Ляжем спать, — сказала Марина, — Сон — брат смерти, но отец хороших решений.
Собек снова ушел в курную избу, а когда на другой день проснулся на рассвете, Марина не стояла, как всегда, у печки и не готовила завтрак. Он ждал, но не дождался ее. Отворил дверь в горницу и увидел на постели одну Беату. Он подошел, стал около нее и зашептал:
— Как же я позволил бы кому-нибудь взять тебя, если ты хочешь жить у нас, цветок лилии? Нет, не дождутся! Я не воевода, не князь, мне нечего думать о тебе, но никто не сможет так любить тебя и не будет так любить! Во власти твоей — кровь моя и жизнь, пташка долин, лилия моя!
Он, не сознавая, что шепчет, опустился на колени перед кроватью. Вдруг Беата проснулась и, увидев Собека, воскликнула с удивлением и страхом:
— Что такое? Что вы делаете, Собек?
— Я Марину искал… хотел помолиться, — ответил, вставая, смущенный Собек.
— Марины нет?
— Нет!..
А она, оседлавши лошадь и взяв в руки косу, рысью ехала через лес к Заборне. Она спешила: не дождавшись слуги, Сенявский, конечно, двинется к Татрам. Это надо было предупредить.
Дороги она не знала, но сломя голову домчалась до ближайшей деревни, а там мужики сказали ей, куда надо ехать.
Когда она подъехала к Заборне, было уже около полудня; она ехала медленно, потому что лошадь устала. Да и она сама была сильно утомлена долгой скачкой и тяжелыми мыслями.
Она ехала навстречу несчастью, чтобы предупредить его, не дать ему совершиться.
Она еще не знала, что будет делать, хотела только задержать нападение Сенявского на Грубое.
Она отдавала себя в его руки; хотела лечь у его ног, как порог, переступить который он не сможет. Что с нею будет, она не могла предвидеть.
Чувствовала одно: что боги ее призвали, что они вели се мстить Сенявскому за поражение отряда, который вел Собек, за кол пана Костки, за смерть деда, за разграбление дома, — мстить, хотя в сердце ее было любви столько же, сколько ненависти…
Дедилия, богиня любви, не услышала ее молитвы… У богини любви, окруженной голубями, увенчанной миртами и алыми розами, под грудью была голубая перевязь и сердце было видно, чтобы можно было убедиться, что нет в нем ничего нечистого, ни жажды мести, ни злобы. В сердце Марины все чувства были как змеи среди лилий. Она и любила и ненавидела.
Она держалась лесных дорог, чтобы не попадаться никому на глаза, и, чтобы не сбиться с пути, все время смотрела на вершину Бабьей горы, под которой лежала Заборня. Иногда встречные указывали ей дорогу. Она выдавала себя за сестру Яносика Нендзы Литмановского и говорила, что брат послал ее к Баюсу из Лещин, рыжеусому атаману, убившему панов Трояновского, Бобровницкого и Былину. Этого было достаточно. Никто не осмеливался дерзко поднять на нее глаза, и только, когда она проезжала, парии жадно поглядывали на эту красавицу.
Она приехала после полудня и заявила страже, стоящей перед корчмой, что у нее есть дело от Томека к пану.
Сенявский в это время сидел в комнате, обитой привезенными коврами, и писал стихи. Он чувствовал себя одиноким, покинутым, и сердце его было исполнено тоски и горечи. Когда слуга постучал в дверь, он едва приподнял голову, но, узнав, что девушка с косою в руке приехала верхом и остановилась перед корчмой, бросил перо, вскочил из-за стола и выбежал на двор.
Изумился он чрезвычайно, но только в первую минуту. Он подскочил к Марине и крикнул, как в Чорштынском замке:
— Ты?
— Я, — ответила Марина с лошади.
Вокруг стояли драгуны: десятка два людей, бывших свидетелями позора, которым Марина покрыла его в Чорштыне. Бешенство охватило Сенявского. Вспыхнув, как огонь, он закричал не помня себя:
— Взять ее!
Драгуны стащили Марину с лошади, прежде чем она успела замахнуться косой.
— Раздеть! — крикнул Сенявский.
С плеч Марины сорвали полушубок.
— Донага!
Она не сопротивлялась. Несколько сильных рук держали ее; с нее сорвали платок, юбки и, наконец, рубашку. Коса расплелась, и волосы рассыпались по плечам.
Она не кричала. Смертельно бледная, смотрела в глаза Сенявскому. Ничего человеческого не было в этом взгляде.
Высокие, прямые плечи ее не дрожали под руками солдат. Она стояла голая, похожая на стройную, гибкую, крепкую ель.
Переглядывались даже привыкшие ко всему солдаты Сенявского. А он, по своему обыкновению, подбоченился и, тяжело дыша от страсти, глядел на Марину.
Марина не знала, что он с ней сделает: не бросит ли ее на потеху драгунам? И ее лазурные глаза, словно острые ножи из голубой стали, старались проникнуть в самое сердце Сенявского. Смертельный ужас овладел ею. Только глаза и зубы были ее оружием в эту минуту. Сенявский стоял и смотрел на нее.
Видывал он во время своих путешествий по Италии мраморные статуи древних богинь. И Марина напоминала ему Диану, богиню охоты, с копьем в руке преследовавшую оленя.
Расцветшая сила сочеталась в теле Марины с расцветом женственной прелести. У Сенявского задрожали губы, подбородок поднялся вперед, шея вытянулась, как у сокола, летящего за добычей, — неожиданно, словно подгоняемый силой, превосходящей все, он подскочил к девушке, обнял ее одной рукой и, крикнув драгунам «Прочь!» — голую втащил по каменным ступеням в корчму; здесь он, закрыв глаза, чтобы не видеть ее взгляда, сжал ее в объятиях. А она, чуя уже над собой власть Дедилии, богини любви, подумала, что ложится преградой между Топорами и Сенявским.
Оба долго молчали. Наконец Сенявский прошептал:
— Ты любила меня?
— Любила, — отвечала Марина.
— Зачем же ты мне противилась?
— Я не шиповник, который можно сорвать, понюхать и бросить!
— Любишь меня еще?
— А что ты сделал?
— Что хотел!
Сенявский почувствовал, как руки Марины сошлись за его спиной и впились в поясницу.
— Тебя Томек послал?
— Да. Я нашла его в лесу умирающим.
— А что с ним случилось?
— Медведица его помяла.
— Панна Гербурт у вас?
— Я бы убила и ее и тебя! — сказала Марина.
— Значит, любишь еще?
Марина не ответила, только рукою нащупала то место, где билось сердце Сенявского.
После победы под Берестечком были совершенно подавлены крестьянские бунты. Вести о повсеместных разгромах деревень, о казнях и мести со стороны шляхты приходили все чаще и были все ужаснее, а Сульницкий, злясь на Сенявского за то, что тот держит его в глухой Заборне, бесчинствовал сам и разрешал бесчинствовать солдатам. Начались пожары, насилия, убийства и грабежи; каждую ночь во многих местах горели дома, и огромное зарево стояло на небе. Этими заревами приветствовали друг друга пан Ланцкоронский, впоследствии убитый мужиками, ротмистр Циковский и Сульницкий, слуга Сенявского.
В одну из таких багровых ночей Кшись проснулся и сказал жене своей Бырке:
— Бырка, если так будет продолжаться, так и до нас дойдет.
— Дойдет! — с закоренелым бабьим пессимизмом согласилась Бырка.