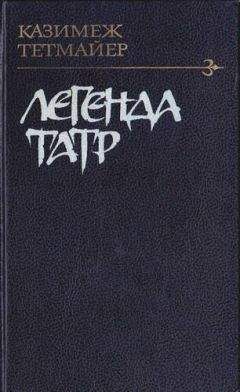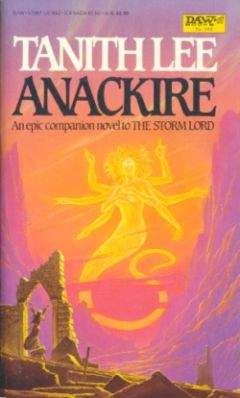В одну из таких багровых ночей Кшись проснулся и сказал жене своей Бырке:
— Бырка, если так будет продолжаться, так и до нас дойдет.
— Дойдет! — с закоренелым бабьим пессимизмом согласилась Бырка.
— Если не переменится дело, плохо нам будет.
— Плохо!
— Надо спасаться.
— Надо!
— Руки-то у нас есть, а головы нет, — сказал Кшись.
— То-то и оно…
— Собек Топор — вот был мужик!
— Ага!
— Только не повезло ему под Чорштыном. Люди веру в него потеряли. И что-то с ним неладное творится. Я его видел третьего дня. Дохлый какой-то ходит. Да еще Маринка куда-то пропала…
— Кажись, и лошадь взяла?
— Да.
— Ну, так нечего на Собека удивляться. Лошадь — большой убыток.
— Собек в вожаки теперь не годится. А вот я знаю другого.
— Кто же такой?
— Литмановский Яносик.
— Атаман этот?
— Он. Вот это молодец! Если и он нас не спасет, так уж больше некому! Он только ногой топнет, как у него из-под лаптя семьсот чертей выскочит! Орел! Я к нему пойду.
— Ну что ж, иди, — сказала Бырка. Она мало что понимала, кроме горшков да чистки коровьих стойл.
Кшись собрался, поел холодной капусты, оставшейся со вчерашнего ужина, — он хоть и любил поесть, а дома у себя был бережлив и недоедал, — завернул на дорогу в тряпку кусок овсяной лепешки да сала и отправился в Закопане к Нендзам. По дороге он не пропускал ни одной корчмы, выпил в каждой, но в меру, чтобы явиться к Яносику трезвым. Боялся только, что не застанет его дома. Каково же было его удивление, когда перед избой Нендзы увидел он огромную толпу баб, мужиков и детей.
«Это что же такое? — подумал он. — Помер кто-нибудь, что ли?»
Все переговаривались шепотом, а когда Кшись подал голос, чтобы узнать, что случилось, ему дали знак замолчать.
— Спит! Спит!
— Кто? — спросил Кшись.
— Яносик.
— Яносик? Он дома?
— Дома. Только спит.
— Болен, что ли?
— Нет. Спит.
— А чего вас тут набралась такая орда, словно на праздник?
— Мы к Яносику пришли.
Кшись протолкался к избе. На пороге стояли старики, родители Яносика, и две двоюродные сестры его, Ядвига и Кристка. Рядом на скамье сидел Саблик и тихонько бренчал одним пальцем по струнам гуслей. Какая-то старая женщина, поглаживая мать Яносика по щеке, спросила:
— А пойдет он?
Мать отвечала с гордостью:
— Пойдет.
В эту минуту распахнулась дверь и из сеней вышел Яносик Нендза, в одной рубахе и портках, босиком. Он откинул со лба волосы и обвел толпу вопросительным, еще сонным взглядом. Мужики, бабы и дети повалились ему в ноги, крича:
— Спаси нас!
— От чего? — спокойно спросил Яносик.
— От насилий, разбоев, огня и пыток.
Женщины обнимали ноги Яносика, восклицая:
— Что есть — все отдадим тебе!
— Я полотна!
— Я корову!
— Я меду!
— Я девку! — крикнула какая-то баба, держа за руку прекрасную семнадцатилетнюю дочь. — Невинная, атаман!
Толпа окружила Яносика, а он положил руки на головы двух женщин, в слезах стоявших перед ним на коленях, и сказал:
— Когда шел я с разбоя от Дуная в Польшу через Железные Ворота в Татрах, я видел ночь, красную от огня! От этого спасать вас?
— От этого! От этого! — закричали мужики.
— Да, да! Господь карает нас руками шляхты! За то, что мы захотели воли!
— За восстание!
— Ох, карает, карает! Хуже татар свирепствует шляхта! Жгут, головы рубят, вешают!
— Целые деревни бегут!
— Целые деревни сожжены!
— Скотина, люди, добро — все гибнет!
— Спаси нас! Спаси!
— Мы сюда к тебе, атаман, как к архангелу Михаилу прибежали!
— Под крылья твои!
— Ты уж был нашим солнцем, — будь же и мечом!
— Защити от панов!
— Святой Станислав Костка все слезы своего святого потомка собрал в мешочек и отнес их к престолу господа бога!..
— Да, да!..
— Кровь наша льется! Ни на час нельзя быть спокойными за свою жизнь!
— От огня, глада, меча, смерти внезапной и панской кары избави нас, господи!
— От панских рук спаси нас, господи!
— Пан Ланцкоронский, как Люцифер, что вышел из ада!
— А ротмистр Циковский — антихрист!
— Мор, наводнение, засуха не так страшны, как паны!
— Либо нам бежать на край света, либо всем погибать у наших хат!
— Своя шляхта хуже татар!
Со всех сторон раздавались стоны и плач баб, мужики стояли, опустив головы в безмолвном отчаянии. Семнадцатилетняя красавица вырвалась из рук матери, подбежала к Яносику и, повиснув у него на шее, стала целовать, говоря:
— Гетман! Спаси наши деревни!
Яносик Нендза спокойно отстранил девушку и ответил такими словами:
— Когда, лет шесть тому назад, мать погнала меня к исповеди в Черный Дунаец, говорили мне люди дорогой, что там страсть до чего злой ксендз и что он бьет людей. А мне это нипочем. Ну, думаю себе, если тебе можно меня бить, так и мне тебя можно.
— Вот, вот, так всегда и надо, — сказал старый Нендза, кивая головой.
— Ну, так если можно панам бить мужиков, так и мужикам — панов, — заключил Яносик.
— Верно! — с восхищением закричал из толпы Кшись. — Это вы, Яносик, хорошо сказали! Вы — голова!
— Да, — сказал сыну старый Нендза. — Надо тебе идти.
— Он пойдет, — важно и спокойно сказала мать Яносика.
— Можете идти по домам, — сказал Яносик. — А из мужиков, кто хочет, пусть берет оружие и приходит сюда нынче к вечеру.
Люди бросились к рукам, к ногам разбойничьего гетмана, и он не мог их отстранить; целовали его в щеки, плечи, гладили по волосам. Прекрасная семнадцатилетняя девушка стала перед ним, поднесла руку к шее, словно собираясь развязать ворот рубахи, и спросила:
— Хотите меня? Вот сейчас?
Но он улыбнулся ей ласково и снисходительно, как ребенку, и сказал:
— Ты не для орла, — ты для павлина. Ну, прощай.
Девушка посмотрела на него — и расплакалась.
— По домам! По домам! Расходитесь, — торопил людей старый Нендза.
Они уходили, благословляя Яносика, еще в слезах, но уже полные радости.
Остались только старый Саблик да Кшись.
Вдруг Яносик засунул в рот два пальца и так пронзительно свистнул, что все кругом задрожало.
— Это еще что такое? — в ужасе закричал Кшись.
— Хе-хе-хе! — засмеялся старый Саблик и, приставив гусли к груди, провел по ним коротким изогнутым смычком.
У Кшися в ушах звенело, он даже не услышал игры Саблика. Он думал: «Что-то будет? И зачем свистать так, что от этого свиста у человека нутро дрожит?»
Вскоре из лесу, над которым виднелся дымок (по-видимому, из какой-то хижины), вышел мужчина и направился к дому Нендзы.
— Один уж идет, — сказал Саблик.
Потом пришел второй товарищ Яносика, за ним третий. Шли они, должно быть, бросив домашнюю работу: у одного на одеже висели стружки.
— Недалеко живут, — пояснил Саблик Кшисю.
— Да, этот как свистнет, и черта в пекле разбудит! — с восторгом сказал Кшись, любуясь товарищами Яносика, высокими сильными крестьянами. Когда они стали рядом, от них, казалось, весной пахнуло, как от зеленых буков.
— Ну, эти наделают дел! — шепнул он Саблику.
Саблик кивнул головой и продолжал играть на гуслях.
— Эй, крестный, — закричал Саблику Яносик, — сыграй-ка песню о том разбойнике Яносике, что до меня жил. Мне под нее хорошо думается.
Саблик подвинтил колки, смазал смычок смолой, вынутой из кармана сермяги, и запел по-польски, вторя себе на гуслях, а двоюродные сестры Яносика, Кристка и Ядвига, ему подпевали. Кшись слушал разбойничью песню, которой еще не знал, и дивился ее красоте. Яносик сел на скамью под явором, засунул руки в карманы штанов и широко расставил вытянутые вперед босые ноги. Его три товарища стояли позади, опираясь на чупаги, а Саблик и девушки пели, глядя на Яносика:
На черных волах пашет Ганка,
И полполя вспахать не успела,
А уж мать зовет: «Возвращайся!
Я хочу тебя выдать замуж.
Хочу тебя выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна!..»
День-деньской пропадает разбойник,
А домой приходит только к ночи.
И немного приносит он добычи,
Кривую саблю, покрытую кровью,
Да сырую от пота рубаху.
«Где ты был? — спрашивает Ганка,—
Где свою окровавил ты саблю?»
«Я срубил под окошком березку,
День и ночь шумела березка,
День и ночь уснуть не давала».
Велел Ганке выстирать рубаху,
Не велел полоскать ее долго.
Ганка долго ее полоскала
И нашла в ней правую ручку.
Все пять пальцев были на ручке,
На мизинце — золотое колечко.
«Да ведь это братнина ручка!»
Никому ничего не сказала,
Побежала к матери скорее:
«Мама, мама, все ли братья дома?»
«Нет, не все». — «А кого не хватает?»
«Не хватает младшего, Яна».
В Липтове колокола зазвонили:
Идут на Яносика облавой.
В Липтове колокола отзвонили:
Злого разбойника схватили.
Захватили и ведут его в город,
Три девушки идут рядом:
Одна — Ганка, другая — Марта,
Третья — красавица Терця.
Ганка плачет, Марта тяжко стонет,
А Терця обняла его за шею.
«Не плачь, моя Терця, не стоит,
Подарю тебе все, что хочешь».
«Ничего не хочу, ничего не вижу.
Вижу только вон тот пригорок,
А на нем виселица проклятая».
«Кабы знал я об этом прежде,
Что на ней я буду болтаться,
Велел бы ее покрасить,
Серебром и золотом разукрасить:
Снизу бы талеры вделать,
А вверху золотые дукаты,
Да еще и петлю золотую
Для моей головушки буйной!..»
Кшись, широко раскрыв глаза и блаженно ухмыляясь, смотрел на Саблика и девушек и в немом восхищении слушал песню, принесенную откуда-то из-за Татр. Он ловил каждое слово, каждый звук, чтобы все запомнить. Яносик смотрел в туман, прямо перед собой. По-видимому, мысли его были далеко. Когда же певцы замолкли, он сказал вполголоса, словно доканчивая вслух свою мысль: