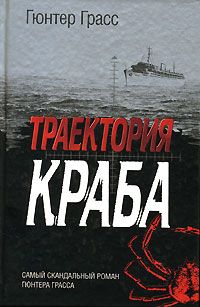Дело выглядело так, будто носовые и кормовые аппараты подлодки безрезультатно выстрелили фантомными торпедами по несуществующим целям. Почти двенадцать тысяч душ, которые должны были бы значиться на личном счету командира, во внимание не принимались. Неужели главное флотское командование устыдилось столь большого и поддающегося лишь приблизительной оценке количества погибших детей, женщин и тяжелораненых? А может, успехи Маринеско затерялись в победной эйфории последних месяцев войны, когда героических поступков совершалось великое множество? Во всяком случае, его шумная настойчивость не могла быть неуслышанной. Он не упускал ни малейшей возможности громогласно заявлять о своих победах. Это надоело.
В сентябре сорок пятого его лишили командования подлодкой, вскоре разжаловали в старшие лейтенанты, а в октябре уволили из военно-морского флота, обосновав эти три ступеньки последовательного унижения ссылкой на халатное отношение к исполнению служебных обязанностей.
После неудачной попытки устроиться в торговый флот — его признали якобы близоруким на один глаз — Маринеско нашел работу в качестве заведующего складом стройматериалов. Прошло совсем немного времени, и он, не предоставив достаточного количества убедительных доказательств, обвинил директора своего предприятия как в получении взяток, так и в даче взяток партийным функционерам, а также в спекуляции стройматериалами; в ответ против самого Маринеско были выдвинуты обвинения, что он, руководствуясь корыстными мотивами, раздавал материалы, пришедшие лишь в частичную негодность, чем нарушил закон. Особое судебное заседание приговорило его к трем годам лагерей.
Его отправили на Колыму, в те места «Архипелага ГУЛАГ», будни которых описаны в литературе. Лишь спустя два года после смерти Сталина Сибирь осталась для него позади, по крайней мере в географическом отношении. Он вернулся больным. Только в начале шестидесятых годов пострадавший герой-подводник был реабилитирован. Ему вернули звание капитана третьего ранга — правда, сейчас уже в отставке, — он получил право на пенсию.
А теперь мне опять придется вернуться назад. Поэтому скажу следующее. Когда на Востоке и на Западе объявили о смерти Сталина, я увидел мать плачущей. Она даже свечи зажгла. Мне было восемь лет, в школу не ходил из-за кори или какой-то другой хворобы, я стоял у кухонного стола, чистил вареную картошку, которую мы собирались есть с творогом и маргарином, и вдруг увидел, как мать при зажженных свечах оплакивает Сталина. Картошка, свечи и слезы были тогда дефицитом. За все годы моего детства и до самых старших классов шверинской школы я никогда не видел мать плачущей. Когда она выплакалась, взгляд у нее сделался отсутствующим, таким, какой хорошо известен и тете Йенни с детских лет. Во дворе столярной мастерской на Эльзенштрассе в Ланг-фуре говорили по такому поводу: «Опять у Туллы выбиты окошки».
Итак, вдосталь наплакавшись из-за смерти великого товарища Сталина и просидев довольно долго с отсутствующим видом, она принялась за вареную картошку с творогом и кусочком маргарина.
В ту пору мать уже стала мастером, возглавила на шверинской мебельной фабрике бригаду столяров, которая в плановом порядке выпускала спальные гарнитуры для братского Советского Союза, укрепляя тем самым дружбу народов. Хотя ее образ этих лет у меня несколько смутен, но вполне определенно можно сказать, что мать по сей день осталась сталинисткои, хотя в ответ на мои попытки в наших спорах развенчать ее героя теперь она уже только отмахивалась: «Ну и что, он тоже был всего лишь человеком…»
В ту пору, когда Маринеско знакомился с сибирским климатом и условиями пребывания в советских лагерях, мать хранила верность товарищу Сталину, а я, будучи пионером, гордился своим галстуком, Давид Франкфуртер, окончательно излечившись в тюрьме от костного заболевания, поступил на службу в израильское министерство обороны. Он женился. Позднее появились двое детей.
И еще кое-что произошло в эти годы: Хедвиг Густлофф, вдова убиенного Вильгельма, покинула Шверин. Теперь она жила на западе от внут-ригерманской границы, а именно в Любеке. Особняк из клинкерного кирпича по адресу Себастьян-Бахштрассе № 14, построенный супругами незадолго до убийства, был вскоре после войны национализирован. Я видел фотографию этой типичной солидной виллы, рассчитанной на одну семью, в Интернете. Мой сын додумался на своем сайте до требования вернуть несправедливо отнятое здание, чтобы устроить там «Музей Густлоффа», доступный для заинтересованной публики. Дескать, потребность в профессионально подобранных экспонатах и материалах простирается далеко за пределы Шверина. Он, впрочем, не возражал против того, чтобы слева от балконного выступа и окна сохранилась бронзовая табличка, оповещавшая о том, что с сорок пятого по пятьдесят первый год в этом национализированном здании проживал первый премьер-министр Мекленбурга, некий Вильгельм Хёккер. Не возражает он, дескать, и против окончания надписи: «после разгрома гитлеровского фашизма». Мол, это такой же неоспоримый факт, как и убийство Мученика.
Мой сын весьма умело справлялся с размещением на своем сайте иллюстративного материала, таблиц и документов. Например, я обнаружил здесь изображение как фронтальной, так и тыльной стороны большого памятного камня, установленного на южном берегу Шверинского озера. Он приложил немало стараний, чтобы рядом с фотографией камня поместить плохо различимую и потому специально увеличенную надпись, высеченную на тыльной стороне камня. Три строки, расположенные друг под другом.
Жил во имя Движения.
Убит евреем.
Погиб за Германию.
Поскольку в средней строке имя убийцы не называлось, а тем самым злодейскими убийцами объявлялись по существу все евреи, то можно предположить — и позднее такое предположение получило развитие, — что Конни отказался от односторонней фиксации на конкретной личности Давида Франкфуртера, решив продемонстрировать свою ненависть к «еврею как таковому».
Однако ни подобное объяснение, ни поиски других мотивов не смогли пролить достаточно света на событие, произошедшее 20 апреля 1997 года. Перед закрытой в эту пору молодежной турбазой, имевшей довольно запущенный вид, разыгралось нечто, чего нельзя было предвидеть, однако для такого финала замшелый фундамент бывшего Мемориала героев оказался более чем подходящей сценической площадкой.
Что подвигло виртуального Давида покинуть далекий Карлсруэ, где восемнадцатилетний гимназист, старший из троих сыновей, жил со своими родителями, чтобы во плоти отправиться на поезде в Шверин, откликнувшись на невнятно высказанное приглашение? Что подтолкнуло Конни к тому, чтобы перенести возникшую в Сети по существу виртуальную дружбу-вражду в реальность, то есть устроить настоящую встречу? Приглашение на эту встречу было так искусно запрятано среди прочего коммуникационного сора, что расшифровать его мог только извечный оппонент Давид.
После того как молодежная турбаза была отвергнута в качестве места встречи, обе стороны сумели найти компромисс. Решено было встретиться там, где Мученик родился. Неплохой вопрос для телевикторины, ибо на сервере моего сына не указывались ни соответствующий город, ни улица, ни номер дома. Однако подобного намека знатоку вполне хватило, а Давид, как и Конни, именовавший себя в Сети Вильгельмом, знал треклятую историю Густлоффа вплоть до мельчайших деталей самого идиотского характера. Во время приезда Давида в Шверин выяснилась, например, его осведомленность даже насчет того, что гимназия, где Густлофф проучился несколько лет, после смерти была названа в его честь, а во времена ГДР она стала общеобразовательной средней школой и была переименована в «Школу мира». Мой сын признавал не только значительную осведомленность своего оппонента, но и восхищался им как «фанатом точности».
Итак, погожим весенним днем они встретились на Мартинштрассе у дома № 2, на углу Висмаршештрассе. С тем, что назначенная дата имела особое значение, Давид молча согласился. Встреча произошла перед фасадом дома, недавно отремонтированного, чтобы забыть о запустении, царившем здесь долгие годы. Известно, что они обменялись рукопожатием, при этом Давид, шагнув навстречу долговязому Конраду По-крифке, назвал себя Давидом Штремплином.
По предложению Конни в качестве первого пункта совместной программы состоялась прогулка по городу. При осмотре района Шельф-штадт гостю была показана как одна из достопримечательностей даже сохранившаяся на одном из задних дворов Лемштрассе кирпичная хибара, крытая толем, где мы ютились с матерью в послевоенные годы, а также частично обветшалые, частично уже отремонтированные фахверковые домики этого живописного квартала. Конни с такой уверенностью продемонстрировал Давиду все потайные уголки и места моих детских игр, будто речь шла о его собственном детстве.