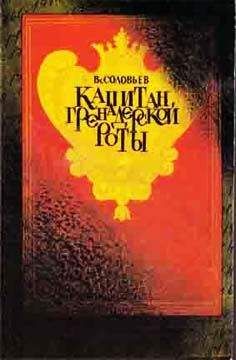Если Андрей Иванович так решительно высказался, значит, он считает это дело возможным, значит, так оно и будет. Но вдруг одна мысль пришла в голову принца Антона и он смутился.
— Но что же нам делать с Елизаветой? — сказал он Остерману. — Справимся мы с женой, так, ведь, еще и с этой надо будет справляться. Вы говорите, народ недоволен, но знаете ли, что с каждым днем этот народ думает о ней все больше и больше.
— Очень может быть — проговорил Остерман, — только сама-то она много ли о себе думает? Я, признаюсь, не считаю ее опасной вам соперницей. Одно время я зорко к ней присматривался: я предполагал в ней честолюбивые замыслы, но теперь она меня почти успокоила. Право, мне кажется, что она не тем занята… или, может быть, у вас есть какие-нибудь новые основания, или важные сведения?
— Особенно важного ничего нет, — отвечал принц Антон, — но все же я нахожу довольно много подозрительного в ее поступках. Люди, приставленные мною к этому делу, каждый день мне доносят о всяком ее поступке и всяком движении…
— Ну да, знаю, так что же нового?
— А то, что она все больше и больше сближается с гвардейцами и все чаще и чаще видится с Шетарди. Этот хирург ее, Лесток, то и дело пробирается во французское посольство.
— Все это, по моему, не опасно, — сказал Остерман. — Я также не упускаю из виду цесаревну и могу вас успокоить.
— Если вы так говорите, граф, то я спокоен, но ведь, все же не следует ослаблять за ней надзора!
— О, это, конечно! — ответил Остерман. — Осторожность не мешает ни в каком случае.
Принц Антон окончательно успокоился, считал себя уже императором и даже вздумал было высказывать Андрею Иванычу свои предположения относительно того, как он намерен царствовать.
Остерман не перебил его и стал дремать под его мечтанья. Наконец, принц уехал.
Он вернулся во дворец с выражением торжественности во всей фигуре.
Ему захотелось теперь посмотреть и на жену, и на Юлиану. Ему сказали, что принцесса в аппартаментах императора. Он прошел туда.
Иоанн III еще не отдавал приказаний часовым заграждать дорогу перед своим родителем, и часовые почтительно пропустили принца Антона.
Он прошел несколько комнат, где то и дело мелькали женщины, приставленные к особе императора, и, наконец, очутился в спальне своего сына. Он увидел принцессу, сидящею у роскошной колыбели. Юлиана была тут же: она что-то толковала почтительно стоявшему перед ней доктору.
Анна Леопольдовна мельком взглянула на мужа и склонилась к колыбели.
— Что такое? — спросил принц Антон. — Разве он нездоров?
— Немного, ваше высочество, — отвечал с глубоким поклоном доктор. — Ровно ничего опасного, однако, все же надо будет принимать прописанную мною микстуру.
Принц Антон подошел к колыбели.
— Пожалуйста, тише, — заметила, не глядя на него, Анна Леопольдовна. — Он спит, вы его разбудите.
Но он не обратил внимания на слова ее. Он сделал знак кормилице, чтобы она встала с табуретки, поставленной у колыбели, и сел на эту табуретку.
Он осторожно приподнял батистовую занавеску и взглянул на ребенка.
Крошечное создание лежало на вышитой подушке.
Несмотря на тишину в комнате, принц Антон все же не мог уловить слабого дыхания спящего младенца.
«Боже мой, — мелькнуло у него в голове, — а вдруг он умер! Что же тогда будет?»
Он наклонился к самому лицу сына: легкое, почти неуловимое, теплое дуновение коснулось его щеки.
«Нет, он спит, — подумал принц. — Но какой он маленький, какие крошечные, худенькие руки».
— Да отойдите же, вы его разбудите! — шепнула Анна Леопольдовна.
Принц Антон ее не слышал: он в первый раз внимательно глядел на сына. В его сердце зародилось какое-то новое, никогда еще не изведанное им чувство. Ему казалось, что он любит этого ребенка; да и, действительно, он любил его в эту минуту.
Он осторожно приложился губами к маленькой, ручке и несколько минут не отрываясь глядел на кругленькое, обрамленное прозрачным чепчиком личико. Это было странное личико, как-то чересчур спокойное, даже как будто уставшее.
Сердце принца Антона болезненно сжалось. Он забыл все волнения этого дня, все свои ощущения и мысли, забыл разговор с Остерманом и обратился к жене, как будто никаких недоразумений никогда и не было между ними.
— Послушай, Анна, — сказал он, — отчего он такой бледный, такой маленький.
— У него трудный рост, — заметил доктор. — Но, ведь, это еще ровно ничего не значит. Конечно, всячески нужно беречь его и, главное, не возбуждать ничем его внимания, он должен быть спокоен.
— Да, да, — поспешно заметила Анна Леопольдовна. — А вот вы же, — она взглянула на мужа, — вы же все толковали о необходимости показать его посланникам. Никому нельзя его показывать, да и к тому же все обратят внимание именно на то, что он маленький, начнутся всякие пересуды и соображения. Надеюсь, вы вы не станете теперь вмешиваться в мое решение никого не допускать сюда до тех пор, покуда он не окрепнет?
— Делайте как знаете, — отвечал принц Антон и со вздохом вышел из спальни сына. И долго еще преследовало его это маленькое, бледное личико с выражением такой странной, не детской усталости, с закрытыми глазами и длинными темными ресницами, с крошечными, чуть-чуть вздрагивающими губами. И долго он чувствовал на щеке своей какое-то странное дуновение, поднявшее в нем неведомые ему чувства любви, тоски и неясных опасений.
V
После теплого и ясного дня наступил свежий, лунный вечер. Петербургские улицы мало-помалу утихали. В тишине невозмутимой выделялся на светлом весеннем небе дом цесаревны Елизаветы. Так было тихо в нем и вокруг него, что казалось никто не живет здесь. Только время от времени можно было заметить, как какая-нибудь фигура, выйдя из-за угла, откуда-нибудь по соседству, останавливалась невдалеке от этого дома, зорко посматривала на цесаревины окна, осторожно обходила кругом, туда, откуда были видны ворота двора и главный подъезд.
Не заметив ничего особенного, фигура уходила мерными шагами. И снова становилось неподвижно и тихо кругом.
Но вот едва слышно скрипнула калитка цесаревнина двора, из нее вышел человек средних лет, огляделся во все стороны — это был Лесток.
— Кажется, никто не подсматривает, — прошептал он. — Вот жизнь! Прогуляться нельзя без соглядатаев. Иной раз так бы вот и искалечил проклятого шпиона, ведь, почти всех их в лицо знаю, да что толку! Еще хуже будет, лучше уж молчать да делать вид, что ничего не замечаю.
Он опять остановился и осмотрелся. «Ну вот, так и есть! — со злостью подумал он. — Вон уже он и крадется. Да сделай одолжение, крадися! подсматривай! А все же — таки не узнаешь ты, куда я иду сегодня!».
И Лесток быстро зашагал, напевая фальшивым голосом какую-то песенку, по направлению к Фонтанной. Он видел или, вернее, чувствовал, что таинственная фигура следит за ним по пятам, но не обращал на нее никакого внимания.
Дойдя до Фонтанной, он перелез через низкие деревянные перила, окаймлявшие местами речку, и спустился к самой воде. Он еще издали заметил, что тут стоит лодка.
— Эй, лодочник! — крикнул он, и в глубине лодки что-то шевельнулось, откинулась какая-то рогожа, и перед Лестоком, на серебристом фоне почти неподвижной воды, озаренной лунным светом, выросла фигура заспанного и еще ничего не понимавшего лодочника.
Лесток прыгнул в лодку и крикнул:
— Отчаливай.
Лодочник очнулся, разглядел дорогую барскую одежду Лестока и, не вступая ни в какие объяснения, поспешно начал отвязывать лодку.
Через минуту Лесток уже плыл вдоль Фонтанной и не без удовольствия поглядывал на преследовавшую его фигуру.
«Ну что, много узнал! — мысленно обращался он к этой фигуре. — Походи теперь по берегу, подожди другой лодки, вряд ли дождешься!» — и он плыл дальше.
С полчаса продолжалась эта импровизированная прогулка по Фонтанной, наконец, выбрав безопасное от наблюдений, как ему казалось, место, Лесток, велел лодочнику остановиться, расплатился с ним и вышел на берег.
Убедясь, что некому за ним теперь подглядывать, он прямой дорогой пошел по направлению к дому маркиза де-ла-Шетарди.
Маркиз занимал одно из самых роскошных помещений во всем Петербурге. Он был послан сюда для того, чтобы способствовать всеми мерами сближению между Францией и Россией. Он должен был для этого употреблять все дипломатические средства, какие только признает необходимыми. В числе этих средств он считал, между прочим, блеск и роскошь.
Над его высокомерием, тщеславием и театральными посланническими приемами подсмеивались в Европе, но он не обращал на это ни малейшего внимания.
В Петербург он явился с таким блеском и пышностью, какими до сих пор не окружал себя ни один посланник. Хотя правительство маркиза выдавало ему не более пятидесяти тысяч ливров в год, но его сопровождала свита, состоявшая из двенадцати кавалеров, одного секретаря, восьми духовных лиц, пятидесяти пажей и целой толпы камердинеров и ливрейных слуг. За маркизом везли его гардероб, которого, конечно, хватило бы на несколько владетельных принцев. Платья маркиза поражали необыкновенным шитьем; некоторые из них осыпаны были дорогими каменьями.