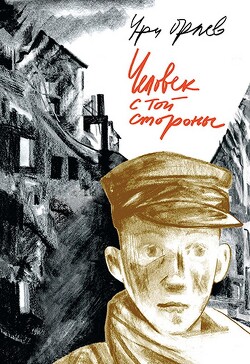посыпались из глаз.
Мама закричала:
— Кто говорит о доверии?! Как ты посмел поднять на него руку?!
Антон огрызнулся:
— Он уже мужчина, и отныне я буду его воспитывать, а не ты!
И повернувшись ко мне, сказал:
— Ты не будешь ставить под угрозу всю семью, понял? И если ты еще раз заведешься с каким-нибудь евреем, уж я тебе покажу!
— Ты мне не отец! — крикнул я.
Антон бросил на меня мрачный взгляд и процедил:
— Твое счастье, что твоего отца нет здесь…
И вышел из комнаты.
Езус Мария, она и это рассказала ему! То, что он сказал сейчас, он сказал не просто так. Я посмотрел на маму. И она кивнула.
— Прости, Мариан, я рассказала ему, что ты знаешь о своем отце. Я должна была. Иначе…
Что иначе?! Этого она мне так никогда и не сказала, хотя я продолжал допытываться многие годы после этого.
Но тогда это меня просто убило. Его пощечина — и предательство мамы.
— Я ухожу из дома, — сказал я.
— Куда? Куда ты пойдешь?
— Пойду жить к бабушке и дедушке. И не вздумайте ступить на порог их дома, пока он не извинится.
Я пошел в свою комнату и сложил несколько самых нужных вещей в свой старый школьный ранец. Мама пошла следом за мной и стала меня уговаривать. Она сказала, что Антон очень рассердился и, по существу, справедливо. Мы должны были с самого начала все рассказать ему.
— Он не позволил бы нам помочь пану Юзеку, — сказал я. — Он сказал бы, что это слишком опасно.
Мама не ответила. Она знала, что я прав.
— Не уходи, Мариан, не делай глупостей. Ты же знаешь, что Антон не извинится. Тем более немедленно.
— Это не только из-за пощечины, — сказал я.
— Я знаю. Но у меня не было выхода.
Сейчас, когда он знал и когда мы оба знали, я не мог вынести его присутствия. Я вышел, хлопнув дверью.
По правде сказать, мне хотелось плакать.
Это началось в понедельник, ровно за неделю до Пасхи. Я хорошо помню этот день. И не потому, что накануне перешел жить к бабушке и дедушке, а из-за тех событий, которые начались в то утро в гетто.
Когда бабушка разбудила меня, я решил, что пора вставать в школу. Но бабушка сказала, что есть еще немного времени и я могу вернуться в кровать, она только просит меня выйти на минуту на улицу и послушать, откуда доносятся выстрелы. Она уже не очень хорошо слышала на одно ухо, и пан Юзек сказал, что по этой причине ей трудно определить источник шума. Он сказал, что это все равно как смотреть одним глазом.
Я открыл дверь и вышел из дома. Выстрелы раздавались из гетто. Мы уже давно не слышали оттуда стрельбы. Иногда, правда, постреливали, но то были одиночные выстрелы — то тут, то там. А на этот раз стрельба звучала вполне серьезно.
Бабушка успокоилась и вернулась в кровать. А я стоял и слушал. Стреляли из пулеметов. Я подумал о пане Юзеке. Какое счастье, что он уже не там. Может быть, он окажется одним из немногих евреев, которые выживут в этой войне.
Я тоже лег в постель. Лежал и вспоминал то, что сказал Антон о моем отце. Что было бы со мной и с моим отцом, если бы он был жив? Сумел бы кто-нибудь опознать в нем еврея? Донес бы на него кто-нибудь, кто знал об этом?
Я не мог уснуть и встал. Все равно отсюда мне приходилось выходить в школу раньше, чем из дома. Тем временем стрельба в гетто усилилась. А потом послышались и взрывы. То ли гранаты, то ли что-нибудь в этом роде, я тогда не разбирался в этих вещах. И тут я услышал резкие гудки машин скорой помощи. Не одной машины, а многих. Я не мог себе представить, что немцы посылают эти машины, чтобы вывезти из гетто раненых евреев. Может быть, это что-то другое? Может быть, эти выстрелы были все же связаны с действиями нашего подполья, и мне только показалось, что они доносятся из гетто? Я так торопился, что начал надевать правый ботинок на левую ногу. Бабушка спросила:
— Что такое, Мариан? Куда ты так спешишь?
Мне не пришлось объяснять, потому что она сама сразу же догадалась и категорически запретила мне приближаться к гетто. Она даже рвалась проводить меня, но я обещал ей поехать на трамвае. Она дала мне деньги на билет. Меня не беспокоило, что я ее обманываю. Она и сама то и дело так поступала.
Помню, что я пошел через улицу Фрета на Свентоярскую, вдоль стены гетто, и наткнулся на полицейского, который прогнал меня в сад Красиньских. Этот полицейский знал меня по одному из воскресных вечеров около трактира пана Корека. Но он все равно стоял на своем. Он сказал, что дальше идти опасно, и не позволил мне подойти поближе — возможно, именно потому, что знал меня. Однако из сада Красиньских тоже все было видно. У входа в гетто стояли пулеметы, и несколько немецких солдат непрерывно били очередями по окнам и воротам домов вдоль Валовой, уходившей в глубину гетто. В саду было еще несколько человек, и я спросил их, что происходит. Постовых, которые стояли вдоль стен через каждые двадцать-тридцать метров, я видел сам.
Один старик сказал мне:
— Кончают с евреями.
А стоявший рядом парень заметил:
— Наконец-то.
И засмеялся.
До того как мама поймала меня с деньгами и до знакомства с паном Юзеком меня бы все это тоже не взволновало.
— Как вы думаете, вернут нам их дома? — спросил кто-то.
— Почему бы нет, — откликнулся кто-то другой. — Вернули же осенью.
— Почему «вернут»? — сказала какая-то женщина. — Ведь это еврейские дома.
И я подумал, что это смелый человек, потому что все сразу же посмотрели на нее с подозрением, и кто-то сказал со смешком:
— Вот еще одна еврейка нашлась.
Мы еще не знали тогда, что от всех этих домов гетто ничего не останется. Только развалины.
Между тем в гетто происходило что-то немыслимое. Противоречившее законам природы. И тем не менее все указывало на то, что там, внутри, идет настоящая война. В сторону