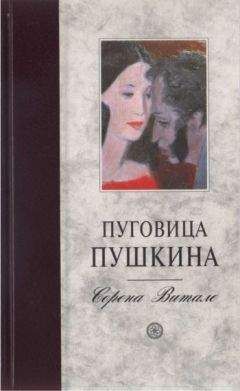Конечно, это Пушкин.
Особняк на Фонтанке был все еще опечатан, и вовсю готовился торжественный обряд похорон графа Шереметева, когда с юга пришла благоприятная весть: больной внезапно, чудесно, почувствовал себя лучше; он выздоравливает. Уваров неистово пытался скрыть следы своей алчности, но было слишком поздно, чтобы заставить замолчать Петербург. Пушкин воспользовался непростительно грубой ошибкой Уварова, чтобы сделать свой собственный беспощадный выпад: он написал «На выздоровление Лукулла», обманув цензора тем, что провел эту «оду» как «подражание латинскому»:
Ты угасал, богач младой!
Ты слышал плач друзей печальных.
Уж смерть являлась за тобой
В дверях сеней твоих хрустальных.
Она, как втершийся с утра
Заимодавец терпеливый,
Торча в передней молчаливой,
Не трогалась с ковра.
В померкшей комнате твоей
Врачи угрюмые шептались.
Твоих нахлебников, цирцей
Смущеньем лица омрачались;
Вздыхали верные рабы
И за тебя богов молили,
Не зная в страхе, что сулили
Им тайные судьбы.
А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»
Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют;
Рабы, как добрая семья,
Друг друга в радости целуют;
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.
Так жизнь тебе возвращена
Со всею прелестью своею;
Смотри: бесценный дар она;
Умей же пользоваться ею;
Укрась ее; года летят,
Пора! Введи в свои чертоги
Жену красавицу — и боги
Ваш брак благословят.
«Спасибо переводчику с латинского, — написал Александр Иванович Тургенев Вяземскому из Парижа. — Жаль, что не с греческого» — таким образом он метафорически добавлял гомосексуализм к отвратительному портрету разочарованного наследника Лукулла. (Каждый знал о связи между Уваровым и Дондуковым-Корсаковым — невежественной посредственностью, выдвинутой министром на должность председателя Цензурного комитета и вице-президента Академии наук.) Уваров пожаловался властям, и Пушкина вызвали в Третье отделение.
Когда граф Бенкендорф потребовал ответа, на кого обращены сии обличительные строки, поэт ответил: «На вас». Бенкендорф скептически усмехнулся. — «Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?» На следующий день он написал: «Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал, — какая черта моей оды может быть к нему применена?» На сей раз Пушкин охватил предмет со всех сторон: любая мера, принятая против него или «Московского наблюдателя», который напечатал так называемое подражание, подразумевала бы, что сам царь узнал в «падком к мертвечине вороне» одного из своих «вельмож», одного из собственных министров. А Уваров поклялся, что Пушкин за это заплатит. В коридорах министерства кто-то слышал, как он кричал: «Сочинениям этого негодяя назначить не одного, а двух, трех, четырех цензоров!»
Слегка завуалированное указание на Уварова в «Notice sur Pouschkin» было ссылкой на распространенный слух, обвинение, не подкрепленное свидетельствами, и понятна реакция города, в котором все еще не замолк смех, вызванный «Лукуллом», потому что смех был всеобщим, даже среди тех, кто публично осудил эту самую последнюю непростительную выходку со стороны поэта. Рассуждение было простое: Пушкин называл Уварова вором и лакеем; Уваров ответил на удар, назвав Пушкина рогоносцем. Логика кажется железной, но это было бы слишком просто. Если бы было хоть малейшее свидетельство против «ворона», разве Пушкин не использовал бы его, чтобы нанести заключительный удар?
БОМБА А ЛЯ НЕССЕЛЬРОДЕ
17 февраля 1837 года, Александр Иванович Тургенев написал в дневнике: «Вечер у Бравуры… оттуда к Валуевой, там Виельгорский. Жуковский о шпионах, о графине Юлии Строгановой, о 3–5 пакетах, вынесенных из кабинета Пушкина Жуковским… Подозрения. Графиня Нессельроде. Спор о Блудове и о прочем с Жуковским». В мемуарах старого князя Александра Михайловича Голицына, написанных в начале двадцатого столетия, есть запись: «Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: „Eh bien, on connait maintenant Г auteur des lettres anonymes qui ont cause la mort de Pouchkine: c’est Nesselrode“[34]. Слышал от особы, сидевшей возле государя». Некоторые заключили из этого свидетельства, что графиня Мария Дмитриевна Нессельроде была автором убийственных дипломов.
С ранней молодости Карл Васильевич Нессельроде был виртуозом блинов, мастером флямбе, знатным художником по глазури. Один из его пудингов стал основным элементом российской кухни, а его удивительный десерт — шарик из мороженого с горячим шоколадом в центре — был увековечен всюду как «бомба а ля Нессельроде». Саркастический правительственный чиновник и мемуарист Ф. Ф. Вигель сообщает, что деликатесы Нессельроде тронули сердце выдающегося гурмана столицы, Гурьева, министра финансов, чья дочь, девушка «зрелая, немного перезрелая… как сочный плод висела гордо и печально на родимом дереве и беспрепятственно дала Нессельроде сорвать себя с него. Золото с нею на него посыпалось».
Вооруженный «слабостью характера» и скудостью ума, что может показаться достоинствами авторитарному правителю, Нессельроде быстро рос в чиновничьих разрядах после краткого, неудачного пребывания на флоте. Он служил советником при российском посольстве в Париже, затем советником самого царя и, наконец, министром иностранных дел и вице-канцлером Российской Империи. (В 1846 году, девятью годами позже смерти Пушкина, он стал канцлером.) Его жена, твердая, надменная женщина, известная своей властностью, стремлением всеми командовать, довольно скоро стала наиболее влиятельной советчицей прежнего советника, поселяя опасение в сердцах дипломатов на полпути к Европе. Фанатично преданная ordre établi и Священному Союзу, она в своих идеях и даже стиле подражала живому примеру Меттерниха. С ее железным характером и кипучей энергией Мария Дмитриевна Нессельроде — «взяточница, сплетница, настоящая баба-яга» — застолбила неприступную позицию в российском высшем обществе, стала предметом лести и страхов придворных, пребывающих у подножия пирамиды с надеждой начать свой собственный опасный, но все же потенциально выгодный подъем. Она любила делать и ломать карьеры, состояния и репутации; по словам М. Корфа, ее вражда была столь же ужасной и опасной, как ее дружба неизменной и заботливой. Она, казалось, преднамеренно подавляла все следы женственности (которой у нее в любом случае было немного, и в лице, и в фигуре). Она презирала светскую салонную беседу, предпочитая политику, финансы, королевские свадьбы и иногда литературу (при условии, что она «серьезная»), и, несмотря на ее искреннюю преданность трону, она не ограничивала себя в критике и осуждении действий правительства: се bon Monsieur Robespierre в шутку назвал ее великий князь Михаил Павлович. Она принимала гостей, полуоткинувшись на диване, молчаливая и отдаленная, поглощенная собственными непостижимыми мыслями, лишь поднимая глаза, чтобы показать некоторые признаки жизни только тогда, когда ее эксклюзивный салон, который многие находили смертельно скучным, был почтен приходом немногих избранных ведущих представителей la société dans la société, членов олигархического ареопага, наподобие тех, кто собирался в салоне Sophie Swétchin в Париже или Мелании фон Меттерних в Вене.