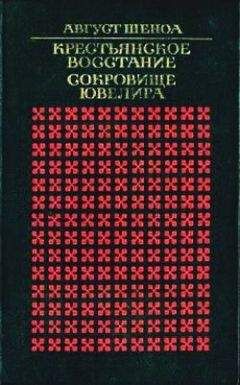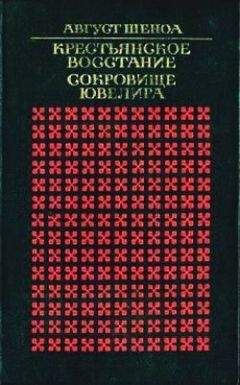– Скажи мне, amicissime frater,[61] – спросил Тахи, – не слыхал ли ты, кто у нас будет баном?
– Ни… чего! – пролепетал Форчич.
– Каждый день разносятся новые вести. Называют то одного, то другого; за ночь баны растут, как грибы. Я старался убедить королевских советников, чтоб назначили либо старого Алапича, либо Мато Кеглевича; да так, вероятно, и будет.
– Это было бы хорошо. Они наши.
– Я каждый день, – продолжал Тахи, – жду письма от господина Батория, который, во всяком случае, меня известит, на что мы можем надеяться.
Вошедший слуга доложил, что королевский управляющий Степан Грдак желает видеть господина Тахи.
– Грдак? – воскликнул сердито Тахи. – Что этому клопу опять от меня понадобилось? Чтоб у меня кусок стал поперек горла? Ну, пусть войдет, по крайней мере ты увидишь, amice подбан, с каким типом я принужден разделять тут власть.
В комнату вошел Грдак, поклонился мужчинам и госпоже Елене. Тахи смерил вошедшего с головы до ног высокомерным взглядом и сказал презрительно.
– Что еще, domine Грдак? Что у вас болит? Вы плохо выглядите. Опять, наверно, придется выслушать какую-нибудь проповедь?
– Я бы хотел, по приказу королевской камеры, поговорить с вами о серьезных делах, magnifiйe domine.
– Говорите не стесняясь, – сказал Тахи, осушив чащу, – здесь только моя жена и мой названый брат, подбан.
– Да, да, говорите, – забормотал Форчич.
– Простите, что я вам досаждаю, magnifiйe, но я уже четыре раза просил вас принять меня. Вы все уклонялись от свиданья, а я ведь состою на службе короля.
– Ну, послушаем, – и Тахи зевнул, снова смерив взглядом стоявшего перед ним управляющего.
– Вам известно, – продолжал спокойно Грдак, – зачем я сюда послан, – еще на рождество вы получили письмо его королевского величества. Я послан от имени казны управлять половиной имения до окончания процесса с госпожой Уршулой Хенинг. Но, простите, вы или, может быть, ваши слуги забыли об этом королевском письме, как забыли и то, что вы здесь не являетесь единственным хозяином.
– Дальше, дальше, – сказал Тахи, оскалив зубы, в то время как Форчич, съежившись, глядел исподлобья на дерзкого управляющего.
– Земля эта – не только ваша, но и пока что королевская; кметы не только ваши рабы, но и подданные короля. Я приехал сюда несколько месяцев тому назад; вы не захотели ни передать мне половину имения, ни даже составить опись имущества. Я обратился тогда к вашему управляющему Джюро, чтоб расспросить о доходах, но благородная госпожа Елена приказала ему не давать мне никаких сведений.
– Совершенно верно, – вставила быстро Елена.
– И очень хорошо сделали, – и Тахи кивнул жене. – Ну, продолжайте.
– Вместо того чтобы передать мне половину замка, вы втиснули меня и моих людей в две пустые каморки вне замка.
– У меня, amice, большая семья, а замок маленький, – засмеялся Тахи, – что же я мог вам предложить, как не каморку, раз вы являетесь чиновником камеры?
– Я не обратил бы внимания на то, как вы обошлись лично со мной, – продолжал Грдак, – но я не могу молчать о том, что здесь происходит. За время своего пребывания я довольно-таки наслушался и нагляделся. Не говорю о прошлом: о голове Степана, об Иване Сабове, – за это вы ответите перед богом; но я ужасаюсь тому, что видел собственными глазами. Вы, magnifiйe, ввели здесь противозаконно семь новых поборов.
– Да.
– Вы собрали с кметов десятину для капитула, израсходовали эти деньги, и теперь бедняки должны снова Платить.
– Ну так что же, ведь они мои рабы.
– Вы силой отобрали у кметов все мельницы на Крапине и тем сокращаете доходы короля.
– Так.
– Вы гоните крестьян с земли и из домов, отнимаете у них виноградники, ноля, скот, словно все это принадлежит вам. Лучшее вы оставляете себе, а что похуже – даете вашим развращенным слугам, в особенности кастеляну Ивану Лоличу. Разве не вы ограбили Мато Белинича, так что бедняк принужден теперь, как нищий, ходить из села в село? Не вы ли отняли все имущество, до последней нитки у кметов Войводы, Матии Мандича, Ивана Чапковича из Брдовца, у Петара Бедерлича из Отока и у Мартина Филипчича из Пущи, так что они остались без крова и пристанища и, голые и босые, пошли по миру?
– Да, – закричал Ферко, вскочив и стукнув кулаком по столу, – я и у сотни других крестьян все забрал, потому что они бунтовщики, потому что они помогали Хенин-гам.
– Что ж, по-вашему, и вдова Марушич, которая с детьми погибает от голода, тоже была бунтовщицей? А скажите-ка, разве не ваши слуги разнесли топорами все крестьянские кладовые и дочиста их опустошили? Впрочем, что я говорю! Вы умеете быть и милостивым: когда вам нужны политые кровью гроши, ваши люди хватают по дорогам несчастных крестьян, и вы их посылаете в Загреб, где принуждаете их выпрашивать Христа ради деньги у горожан, чтоб откупиться от вас. Побывайте-ка у загребских горожан, упомяните замок Сусед, и каждая крещеная душа задрожит. Я не могу, я не имею права молчать. В то время как крестьяне должны были бы работать на королевских полях, вы их сгоняете в Фарно, где на пепелище крестьянских изб они должны строить для вас новый господский дом; земля стоит необработанной, села пусты, народ ограблен, и нечем ему платить королю. Походите-ка по селам, среди народа, прислушайтесь к тому, что говорят. Кипит и бурлит так, что впору в ужас прийти. Потому-то я и явился сюда, что как уполномоченный королевской камеры я не могу дозволить, чтобы сокращался доход короля, чтобы грабили королевскую землю, чтобы мучили до смерти королевских людей. И если все это окончится плохо, ответственность падет на вашу голову.
– Ферко! Ферко! Ты слушаешь, ты молчишь? – воскликнула Елена, смертельно побледнев.
От слов жены Тахи передернуло. Когда Грдак умолк, он закусил нижнюю губу, заложил руки в карманы и, подойдя вплотную к управляющему, спокойно проговорил:
– Вы кончили? Хорошо. Черт вам дал язык, которому любая змея позавидует. Не будь вы на королевской службе, я бы вас повесил, как любого крестьянина, посмевшего открыть рот. А теперь я вам скажу, кто я – я Фране Тахи, главный конюший, имперский камергер, владелец Суседа и Стубицы, барон Штетенбергский, капитан Канижи и вельможа. А вас как звать, несчастный?
– Меня, слава богу, не зовут Тахи.
– Вы ищете ссоры, amice Грдак?
– Я ищу правды!
– Берегитесь, чтоб о правду не сломать себе ребра, если будете подстрекать крестьян!
– Я вам говорю от имени королевской камеры.
– А я вам говорю: пошел вон, сливар!
– Хорошо, – сказал Грдак, уходя, – помните, что вы оскорбили дворянина. Королевскому комиссару барон Штетенбергский будет отвечать поучтивее.
– Этот человек – порождение дьявола! – проговорил Форчич, выпучив глаза, когда Грдак ушел.
– Не бойся, Иван, – Тахи побледнел от злости и захохотал, – этот заяц еще попадется на мой вертел.
Госпожу Елену от волнения бросило в жар, и она едва дошла до спальни. Когда во дворе Тахи сажал на коня своего захмелевшего гостя, он сказал ему:
– Моя жена, amice, сохнет, как старая ива, и святые кружатся над ее головой, как мухи. Она увядает, и бог знает…
Он не докончил, так как в эту минуту подскакал, болтаясь в седле, толстый, коротконогий детина с приплюснутым носом: кастелян Иван Лолич.
– Ваша милость, я вам привез важное письмо. Я получил его от вдовы бана в Загребе, куда оно было прислано.
Тахи распечатал письмо; Форчич с любопытством подглядывал.
– От Батория, – шепнул Тахи, читая.
– Кто же бан? – вырвалось у Форчича.
– Черт возьми, – воскликнул Тахи, – вместо одного бана у нас их два!
– А что же будет со мной? – И подбан разинул рот.
– Поп Джюро Драшкович и рубака Фране Франко-пан Слуньский – вот наши баны! Тысяча чертей! Наши кандидаты провалились.
– Но и их также, – добавил подбан.
– Слава богу, – сказал Тахи, – это tertius aliquis…[62]
– Какую же партию они будут поддерживать?
– Ту, которая их раньше заполучит. Поп умен, спокоен и учтив. Но я умею с ним ладить. Он чертовски честолюбив. На этом-то я и сыграю, и он будет наш. Фране Слуньский только дерется с турками и ни черта не смыслит в политике. Завтра же отправлюсь в Загреб на поклон к Драшковичу. Итак, прощай.
Подбан с трудом зарысил под гору, но Тахи крикнул ему вдогонку:
– Постой, брат! Пусть Лолич тебя проводит до Загреба, а то ты дорогой еще споткнешься. Слышишь, Лолич? Завтра можешь взять мельницу Зукалича на Крапине. Понял?
– Понял. Покойной ночи, ваша милость! – ответил толстяк и поехал вслед за подбаном, который, покачиваясь в седле, таращил глаза на заходящее солнце.
Недалеко от входа во двор замка господин Тахи постучал в дверь помещения кастеляна и вошел. Посреди комнаты стояла молодая черноглазая женщина с маленьким носом, сочными губами и полной грудью. Она подбоченилась, сдвинула густые брови, прищурила один глаз и расхохоталась.