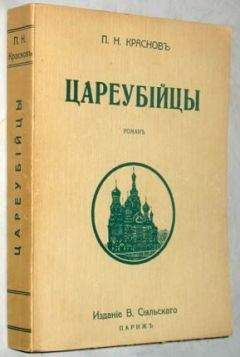— Это я, ваше превосходительство, полковник Разгильдяев.
— Что это вы, батенька, в такой дождь! Небось, промокли совсем…
— Да, есть малость.
— Заходите погреться, чайку вместе напьемся. Я один. Паренсова услал к Имеретинскому.
Полог коляски отстегнулся, и Порфирий с удовольствием влез в нее. Там было тепло и после ненастья непогожего вечера показалось уютно. Внутри коляски на проволоке висел фонарь со свечой. В его свете Порфирий, сам любивший походный комфорт, с удовольствием рассматривал, как в коляске было хорошо и ладно устроено. Передняя часть коляски откидывалась, образуя две мягкие постели. Под сиденьями были устроены выдвижные ящики и сундучки, на бока верха нашиты карманы.
Добровольский в наглухо застегнутом стрелковом сюртуке сидел на заднем сиденье. Перед ним был расставлен раскрытый дорожный погребец, обитый белой жестью «с морозами», подле него был приготовлен поднос со стаканами, тарелками и закуской.
— Как кстати вы пожаловали, — сказал Добровольский, усаживая Порфирия против себя. — Я всех своих услал. Начальника штаба и адъютанта послал за приказаниями. Говорят, завтра — штурм Плевны, а мы еще ничего не знаем. Да и какой может быть теперь штурм? Вы вот пешком шли, так видали, что делается. Какие могут быть по эдакой грязище атаки, перебежки. Да просто не влезть на эти страшные горы.
Порфирий молча вглядывался в лицо Добровольского. Странное оно было, или казалось в этом освещении. Совсем особенная смертельная бледность была на нем, и оранжевый свет свечи не менял его, как свечи, горящие у изголовья покойника, не рассеивают мертвенной бледности его лица. Выражение глаз было жуткое. Точно эти темные живые глаза на мертвом лице провидели нечто ужасное.
— Я, Порфирий Афиногенович, прямо считаю завтрашний штурм невозможным. Я надеюсь… Я уверен, что Государю Императору все это доложат, и Его Величество именно ввиду своего тезоименитства его отменит.
Порфирий сомневался в этом. Он знал, что деликатнейший Государь никогда не вмешивался в оперативные распоряжения Штаба Армии. Чтобы переменить разговор и отвлечь Добровольского от мрачных мыслей, Порфирий стал расхваливать устройство коляски.
— Как только у вас все это хорошо придумано. И спать отлично, и сидеть, точно маленький дом… И все под руками.
— Пожалуйста, не хвалите, — желчно сказал Добровольский. — Это мой гроб!
— Полноте, ваше превосходительство! Всех нас, Божией милостью, переживете.
— Нет! — настойчиво и еще сильнее раздражаясь, сказал Добровольский. — Я это точно знаю. Меня в ней и повезут…
Порфирий растерялся. Мертвое лицо Добровольского страшило. Порфирий замолчал. Добровольский пронизывал его печальными глазами. Так прошло более минуты. На счастье, полог отвернулся, солдат протянул в коляску дымящийся чайник и ласково сказал:
— Пожалуйте, ваше превосходительство, горяченького чаю. Самое во время.
Добровольский стал наливать чай по стаканам. В палатке было тихо. Мерно, ровно и усыпительно сыпал по кожаному верху холодный дождь, и вода, стекая с верха, журчала но лужам.
XXIII
Была глухая ночь, когда Паренсов привез князю Имеретинскому диспозицию на 30-е августа.
Прилегший было, не раздеваясь, на походной постели в хате князь поднялся и накинул на плечи черную черкеску с Георгиевским крестом на свежей ленточке.
— Ну, что? Привез? Завтра? — спросил он и от горевшей на крестьянском столе свечи зажег вторую.
— Садись… Читай.
— «Завтра, 30-го августа, назначается общая атака укреплений Плевненского лагеря», — начал читать Паренсов. — «Для чего: 1. С рассветом со всех батарей открыть самый усиленный огонь по неприятельским укреплениям и продолжать его до 8-ми часов утра. В 9 часов одновременно и вдруг прекратить всякую стрельбу по неприятелю»…
— Постой. Как же это так? Ты прочел: «продолжать огонь до 8-ми часов утра», — значит, в 8 часов огонь прекращен. Как же дальше сказано — «в 9 часов одновременно и вдруг прекратить всякую стрельбу по неприятелю»… Тут что-нибудь да не так…
— Так написано в диспозиции, — смутившись, сказал Паренсов.
— Ну, читай дальше.
— «В 11 часов дня вновь открыть, усиленный артиллерийский огонь и продолжать его до часа пополудни. С часа до 21/2 часа вновь начать усиленную канонаду, прекращая ее только на тех батареях, действию которых могут препятствовать наступающие войска. В 3 часа пополудни начать движение для атаки»…
— Это уже даже не по-немецки выходит, а что-то по-польски, — с тонкой иронией кавказского человека сказал Имеретинский. — В три часа начать… В 7 часов уже сумерки, а там и ночь… Как же по этой-то грязи мы за четыре часа дойдем до Плевны и возьмем весь лабиринт ее укреплений? Ну, что же дальше?
— «Румынская армия атакует северное укрепление»…
— Да ведь там, милейший Петр Димитриевич, не одно укрепление, а целая сеть укреплений, названная Опанецкие редуты, и рядом почти неприступные Гривицкие редуты! Ну, да это уже меня не касается. Что мне-то указано делать?
— Тебя, ваше сиятельство, собственно говоря, нет.
— То есть? — хмурясь и вставая с койки, сказал князь. — Где же моя 2-я пехотная дивизия, стрелковая бригада генерала Добровольского, тоже подчиненная мне, и 16-я пехотная дивизия?
— Под литерою «е» значится: «Отряду генерала Скобелева в составе бригады 16-й пехотной дивизии, стрелковой бригады генерала Добровольского и полка 2-й пехотной дивизии атаковать укрепленный лагерь, прикрывающий Плевну со стороны Лопчинского шоссе»…
— Постой… Как?.. Скобелеву?.. Та-а-к! Я говорил… Добился, значит своего. Недаром он все эти дни ездил то на позицию под самых турок, то в Ставку. Но все-таки?.. Ведь Скобелев подчинен мне… Ну, его взяли, Бог с ним совсем, но я-то хоть с чем-нибудь да остался? Где же я?
— Под литерою «ж» значится: «В резерве колонны генерала Скобелева с обязанностью поддерживать его атаку и прикрывать левый фланг его колонны следуют остальные полки 2-й пехотной дивизии с их батареями под начальством святы Его Императорского Величества генерал-майора князя Имеретинского».
— Та-а-ак! — с тяжелым вздохом сказал князь и подошел к двери. — Значит, теперь уже меня подчинили Скобелеву! Не гожусь, значит!
Он приоткрыл дверь и крикнул на двор:
— Модест! Прикажи запрягать и давай мне одеваться.
— Князь, — воскликнул Паренсов, — да что случилось? Куда ты едешь? Зачем?
— Как куда? В главную квартиру. Что же, любезный, или ты думаешь, что я здесь останусь? Да разве ты, знающий все наше положение, не понимаешь, что Скобелев сразу у меня все отнимет. Он это умеет… А я с чем останусь?
Князь торопливо надевал в рукава черкеску и перепоясывался поясом с кинжалом и шашкой:
— Князь! Я умоляю тебя остаться!
— Остаться? О, да! Я вижу, и ты уже стал Скобелевцем! Остаться?.. Восемь дней тому назад мне за Ловчу дали Георгия — значит, не так уж я плох!.. А теперь отставляют от командования отрядом и даже мою дивизию отнимают у меня… И ты спрашиваешь, зачем я еду?..
— Князь! А долг солдата повиноваться при всех обстоятельствах.
— Долг? Ты мне указываешь мой долг?.. Долг солдата… Вот, уж прости меня — я уеду…
— Князь, подумай! Как можно уезжать с поля сражения, покидать свои войска за несколько часов до штурма?
Низко опустив красивую седеющую голову, князь молча шагал по комнате. Паренсов подошел к нему, обнял его за плечи и сказал глубоким проникновенным голосом:
— Князь, голубчик, останься! Ну, хочешь… Я на колени стану и буду умолять тебя исполнять твой долг! Подумай о Государе!
Имеретинский отстранил Паренсова и снова стал ходить взад и вперед. Так в напряженном молчании прошло несколько минут. Одна свеча догорела и погасла. В хате стало темнее, и, казалось, и ночной тишине слышнее был мерный, ровный шум дождя.
— Хорошо, — останавливаясь против Паренсова, тихим голосом сказал Имеретинский. — Изволь! Я останусь. Но, помни, завтра же с утра Скобелев отберет от нас все, и мы останемся с тобой вдвоем… Садись, пиши приказ!
XXIV
Скобелев встал до света, вышел во двор хаты и долго смотрел, как Нурбайка и вестовой, терский казак, чистили и полутьме под навесом сарая его лошадей. Мягко шуршала щетка, скребница отбивала о камень, и мутном свете походного фонаря со свечой серебром отблескивали крупы серых коней.
— Со светом поседлаете, — сказал Скобелев и по скользкой дощечке, положенной через грязь и лужи двора, прошел в хату. Там, при свете одинокой свечи, одевались его ординарцы. Озабоченный Куропаткин, начальник штаба Скобелева, в накинутом на плечи сюртуке с аксельбантами торопливо писал приказание.
— Вот что, Алексей Николаевич, — сказал Куропаткину Скобелев. — В приказе написано: «Наступление начать в три часа дня»… Это не годится. По такой грязище скоро не пойдешь, да и люди вымотаются. Пиши: «Людей не позже одиннадцати часов накормить горячим обедом с мясом. Движение начать в полдень. Я буду при авангарде Владимирского полка». Как рассветет, так и пойдем. Кажется, и дождь перестает.