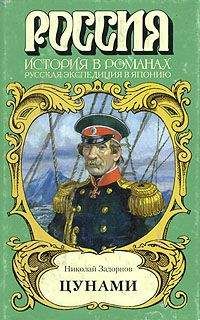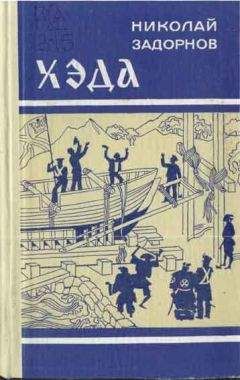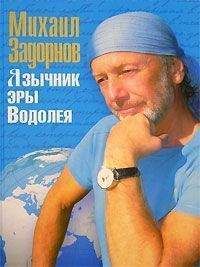– Россия воюет с Англией, Францией и Турцией, поэтому я желал бы не затягивать переговоры, – сказал Путятин. – Долг требует от меня встать в ряды сражающихся.
Послы закивали головами. Почувствовалось, что слова адмирала произвели впечатление.
– Скорейшее заключение договора теперь в интересах японской стороны, – продолжал Путятин, намекая на договор, заключенный с коммодором Перри.
И сразу же в лицо послу, его свите, Можайскому, рисовавшему эту сцену, и переводчику повеяло невидимым холодом. Япония, как извечно, желала оставаться неприступной и независимой.
Путятин подтвердил готовность России жить с Японией в вечном мире и дружбе… Но сам он знал всегда, что уж очень запутаны в неблагожелательстве и предрассудках былые отношения. Не зря суть дела, из-за которого послана эскадра и посольство, так тщательно скрывали от петербургской публики. Да и в Петербурге и в Москве до всего этого никому нет дела! Про наш Восток на Тихом океане там знать ничего не хотят и не знают.
– Совершенно непонятно, на какую перемену ссылается посол Путятин, – сказал Кавадзи. – С тех пор как мы дружески простились в Нагасаки, не произошло никаких изменений. Нам надо продолжать наши переговоры и обсудить дела между нашими двумя государствами, которые были изучены за прошедшее время.
Лицо Путятина прояснилось. Он понял, откуда веет холодком и где опасность, но боя решил не принимать. Он не хотел делать этого при первой встрече.
– Государство российского императора представляет собой великую монархию, – заговорил Тсутсуй, – ее владения простираются от цветущих краев на юге Европы, а также занимают побережья Сибири, Ледовитого океана и Америки, где вылавливается много зверей. По мнению русских, Японское государство издревле нуждается в разных товарах, в том числе и в мехах. Но вы сами видите, какая у нас зима и что нам совершенно не нужно меховой одежды. Посол Путятин мог бы предложить все эти товары с большим успехом в другую страну, где погода зимой холодней, чем у нас. Нам же вполне достаточно тех мехов, которые добываются во владениях матсмайского князя.
– Между Японией и Америкой подписан договор о торговле и открытии портов, – сказал Посьет. – А Япония обязалась…
Кавадзи, кивая головой, долго слушал Посьета. Когда Константин Николаевич закончил, он взглянул на него своими выпученными глазами. У Кавадзи был такой вид, словно он положил руку не на бедро, а на свою рыцарскую саблю.
– Обо всем этом у нас нет никаких известий, – категорически ответил Кавадзи.
Он видел, что Путятин огорчен и озабочен. Адмирал постарел. Волос на голове убавилось. Еще сильнее помутнел его взор. Посол смотрит куда-то внутрь себя. Его обогнали! Форма на нем блестящая, он модный и светский. Но, видно, русским нелегко дается война с англичанами и французами. Можно лишь догадываться о том, что заботит посла Путятина. Вряд ли он скучает! Он – сильный человек, такие не скучают.
Тсутсуй добавил, что бакуфу, посылая своих послов в Симода, желало прочной и долгой дружбы с Российской империей. Теперь известно, что все прошлые недоразумения происходили от неосведомленности обеих сторон, поэтому надо все изучить и обсудить тщательно.
– Мы надеялись, что встреча наша, как было условлено, состоится в Анива на Карафуто и там на месте все решится, – глухо сказал главный шпион. – И вот Мурагаки Авадзи но ками был там по поручению правительства и все изучил и ждал вас.
Путятин ответил, что невозможно во время войны проводить переговоры там, где могут начаться военные действия.
– Мы теперь далеко оттуда, – сказал Кога Кинидзиро, – и нам, наверно, будет трудно обсудить то, что вблизи можно увидеть и обсудить гораздо лучше.
– Да, это совершенно верно, – согласился Посьет.
Пять гладко выбритых голов тускло сверкали. Через открытые окна храма в помещение лился свет розового сумрачного дня.
Тсутсуй сказал, что теперь он понимает все лучше и рад будет продолжить разговор на следующей встрече. А сейчас он желает предложить послу Путятину и его свите обед.
Тсутсуй, обратившись к гостям, сказал, что при последней встрече в Нагасаки от имени России были получены подарки и переданы Наверх. И они приняты.
Переводчик Хори Татноскэ, ползая на брюхе, так перевел дальнейшую речь старейшего из японских делегатов:
– Я хочу передать русскому послу Путятину подарки, присланные японским государем.
– В ответ и с благодарностью прислан список этих подарков, – продолжал Тсутсуй.
Посьет поблагодарил за подарки от имени посла.
– Но пока это только список, а не подарки, – продолжал Тсутсуй, ласково улыбаясь.
Он передал список Накамура Тамея, а тот Посьету.
– А подарки разложены в соседней комнате для отдыха гостей. Я прошу вас туда пройти.
На длинных темных столах сверкают металлом и лаком драгоценные предметы.
– Шкаф для книг, черный лакированный из легчайшего как пух дерева кири, с орнаментом, изображающим сказочную птицу Хоо… – объяснил Мурагаки. – Черный лакированный сундук с изображением камышей и журавля. Серебряная тарелка и серебряная ваза для цветов. Камень для разведения туши в лакированной коробке. Еще ваза для цветов, черная лакированная, с изображением золотого карпа и морского конька… Ширмы работы знаменитого художника Кано Так-ю, золотые с обеих сторон. Для всех этих вещей имеются коробки из легчайшего дерева и соответствующая упаковка…
– А какая теплынь! – заметил Лесовский, когда в сумерках офицеры с Путятиным возвращались на берег. – И всюду цветы цветут.
– Вот куда барынь надо посылать лечиться, – сказал адмирал.
– Да, хорошо бы и их сюда… – молвил Посьет.
На корабле он вызвал к себе Шиллинга.
– Что же с копией американского договора? Вы видите, в каком глупом положении адмирал? У него нет точных сведений, и мы не знаем подробностей договора. Японцы водят нас за нос и уверяют, что ничего не знают про договор с американцами.
Чирей на шее давал себя знать Посьету все сильней, так что приходилось клонить голову набок, и ему казалось, что от этого его требования имеют меньшее значение, может быть, кажутся смешны. Тем строже он говорил с Шиллингом. Барон, как и Посьет, знает голландский язык. Он установил дружеские отношения с Мориама Эйноскэ и Хори Татноскэ, но до сих пор не мог ничего добиться ни от одного из переводчиков.
– Как вам Кавадзи?
– Я в восторге от него! – говорил в кают-компании Можайский. – Какая умница! Я бы хотел написать его портрет.
– Просите у капитана разрешение съехать завтра на берег да идите прямо к нему в храм. Он вас примет… Полагаю, что вы с ним сговоритесь. Это вполне светский человек, с европейским мышлением и без предрассудков. Но, конечно, будьте осторожны, помните, что он должен считаться с предрассудками своего общества, и не перегните палку.
Можайский был совершенно согласен с этими словами Пещурова.
На другой день вечером Кавадзи записал в своем дневнике: «Сегодня приходил варвар огромного роста и с отвратительным лицом и хотел меня рисовать. Его фамилия Можайский. Мне опять пришлось надевать хаори. Я ответил, что сегодня занят. Можайский стал развязно говорить, что ценят русские женщины в мужчинах. На это я ответил, что русские женщины глупые, если говорят о мужчинах. А умные русские женщины говорят о начальстве». Кавадзи полагал, что раз дело еще не начиналось, то нечего думать об удовольствии и нельзя позволять художнику рисовать свой портрет. «Удивительное нахальство эбису», – записал он.
За последние дни Можайский написал акварелью несколько этюдов. Изобразил голую японку на фоне леса, в духе Фрагонара или Буше.[74] Японка спешит в баню, крытую дранкой. Он водил на стрельбище матросов, и, пока унтер-офицер с ними занимался, Александр Федорович залезал на скалы и писал пейзажи, бухту с «Дианой», храмы, группы японцев.
А еще через день японские послы прибыли на русский корабль. Им показали чертежи пароходов, машин, парусов, библиотеку, устроили артиллерийские учения. Кавадзи хотел запалить огонь и сделать выстрел из огромного орудия, но с непривычки не смог. Кавадзи попросил показать ему ружье и заметил, что оно не чищено. Капитан обмер от злости. Японец попал не в бровь, а в глаз.
– Из этого ружья только что стреляли, – нашелся Мусин-Пушкин.
Про водолазный костюм Кога сказал, что он походит на предмет, который изображается иероглифом, означающим накладное лицо.
– То есть маску для фехтования, – пояснил Гошкевич.
Кавадзи внимательно рассмотрел копию Веласкеса, сделанную Можайским, и высказал восхищение осанкой европейской женщины. Можайский ему нравился. Но он не мог этого написать в дневнике. В официальных дневниках следует писать только плохое про иностранцев.
Можайский показал гостям пейзажи Осака. Кавадзи сказал, что он служил в Осака, знает там все места и что рисунки очень верны.