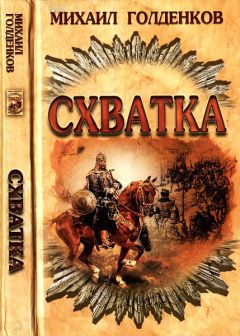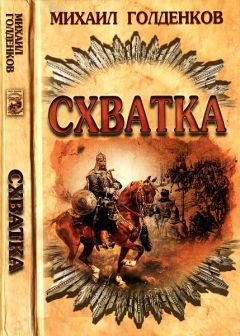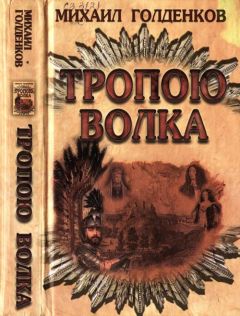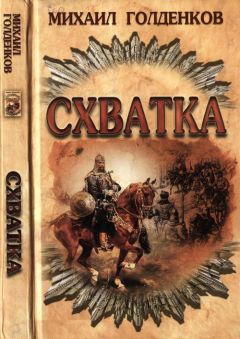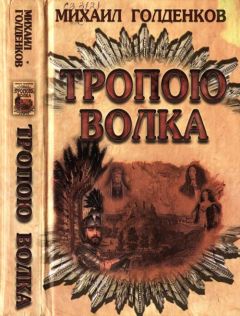И вдруг…
Или же польский жавнер, а может и ливтин, видимо, чтобы окрепнуть духом, а может для того, чтобы поднять дух других, срывающимся хриплым голосом запел «Богородицу», старый польско-литовский гимн, что ляхские и литвинские рыцари пели в былые времена перед важными битвами, пели перед Грюнвальдом, пели перед Оршей.
Bogurodzica dziewica,
Bogiem slawiena Maryja…
Одиноко звучал в сыром воздухе голос жавнера. И тут же хор литвинских гусар дружно подхватил поляка:
U twego syna Gospodzina
U twego syna Gospodzina
Matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spusci nam….
Странно… Казалось бы, старинный, давно забытый гимн, который не пели уже давным-давно, никто не забыл! За поляком и гусарами подхватили пехотинцы из простых городских мещан и крестьян:
Twego dziela Krzciciela, bozycze,
Uslysz glosy, napeln mysli czlowiecze…
Брови Кмитича взметнулись в удивлении и восхищение: жмайты из роты дивизии Паца также дружно запели:
Siysz modlitwe, jqz nosimy,
A dac raczy, jegoz prosimy:
A na swiecie zbozny pobyt,
Po zywocie rajski przebyt.
Люди пели, кто сидел на земле или у дерева вставали один за другим, сжимая мушкеты и сабли. На глазах многих блестели слезы. Слезы навернулись и на глаза Кмитича. Он также стоял и пел, крепко вцепившись пальцами в рукоять своей карабелы. Кажется, в эту минуту все могли устремиться в бой на врага, и ни шквал пуль, ни каленые ядра, ни гранаты, ни сабли, ни пики не остановят этих людей в их праведном порыве разгромить опостылевших захватчиков, освободить милую Спадчину, истомившуюся, истосковавшуюся по мирному небу…
— Огня! — рубанул саблей воздух Кмитич. Туман высветил фигуры всадников в каких-то тридцати-сорока шагах от засеки… Рванул залп двадцати пехотинцев жмайтской роты. Люди стреляли прицельно, расчетливо, понимая, что стреляют в последний раз. Грянул второй залп, более тихий, хлопнул выстрел пушки… Слышно было, как ржут кони врага, как кричат люди, как мечутся в тумане их тени — практически вся середина гусарской сотни московитов была высечена пулями. Сам Черкасский был ранен в руку, пулей сбило и его высокую турецкую шапку.
— Атакуй!
— Руби!
Вперед кинулись драгуны и гусары. Их лава налетела на расстроенную поредевшую массу вражеских гусар, с грохотом сшиблась. Захлопали выстрелы седельных пистолетов. Литвины и московиты стреляли друг в друга почти в упор. Но окончательно опрокинуты были остатки новгородского полка. Его уже не было.
— Карата![5] — кричали в панике карелы, падая с коней, сбрасывая тяжелые кирасы и шлемы, мешавшие бежать. По ним били сабли и копья, топтали копытами кони. Не единого выстрела уже не звучало с литвинской стороны. Стрелять всем было больше нечем. Лишь зычный крик «Руби!», да свист, разрубающих воздух сабель, лязг металла по металлу, стук копыт да громыхание копий, бьющих по вражеским доспехам… Драгуны и гусары на плечах бегущих смяли московитскую пехоту, рубя ее, прокалывая копьями, топча копытами. Московитским ратникам досталось и от собственных гусар, в панике сметающих все на своем пути.
— Атакуй! — крикнул пехотинцам Сорока. Те с криками и саблями ринулись на позиции Хованского.
— Дьявол! — взвыл Хованский, глядя как повторяются Кушликовы горы. Повторяются ли? Нет! Только не сейчас!
— Резерв в бой! — кричал Хованский, глядя, как его оборона превращается в то, что он уже не раз видел: в столпотворение, в хаос. Но сейчас у него было достаточно сил, чтобы остановить этих наглых литвин. По его приказу легкая конница из татар и казаков бросилась на гусар. Их первые ряды тут же были смяты семиаршинными гусарскими пиками, смяты были и вторые ряды, но затем гусары сами увязли в московитской коннице, стрелявшей из пистолетов, мушкетов и луков. Выскочили стрельцы, загрохотали их пищали. Сильно потесненные позиции московитов уперлись, встали и теперь сами шли вперед. С отчаяньем раненных львов рубились гусары. Чтобы завалить одного такого бравого шляхтича московитам требовалось три-четыре человека, которых вперед зарубал опытный гусар. Московские кавалеристы предпочитали вышибать гусар не саблей, но выстрелом. Гусары также пустили в ход свои седельные длинноствольные пистолеты. Застучали их выстрелы. С криками вылетали под пулями казаки Хованского из седел. Вновь стали теснить литвинские гусары, вновь пошли вперед, протыкая своими пиками своих врагов, рубя в капусту карабелами.
— На гусар! Вперед! — посылал Хованский свой предпоследний конный резерв из тяжелой боярской конницы. Те несмело пошли вперед, но своей массой остановили продвижение гусар. Вновь закипела ожесточеннейшая рубка, и как бы храбро не бились конные литвины, как бы не рубили врага направо и налево, вновь их стали теснить. Здесь же рубился и Кмитич. Свой пистолет он уже разрядил в голову московитского всадника. Второй пистолет все еще торчал круглым наболдашником рукояти из седельной кабуры.
Хованский, сидя в седле белогривого коня, с ухмылкой осматривал сражение в подзорную трубу Он видел, как отчаянно сопротивляются литвины, видел в блестящей каске и самого Кмитича и также видел, что у его соперника нет резервов, а у самого Хованского в обозе еще стоит полтысячи пехоты и сотня драгун иноземного строя, стоят пять пушек… Да, победа будет тяжелой, это было очевидно уже сейчас, но Хованскому было плевать сколько он потеряет людей — четыре тысячи, пять тысяч или все семь. Не важно! Главное, этот ненавистный оршанский полковник будет разгромлен, и самого его, если повезет, бросят связанным к ногам князя Хованского. Убьют Кмитича — тоже хорошо. И даже мертвый оршанский князь будет хорошим подарком за годы поражений и унижений.
* * *
Богуслав все еще стоял под Двинском. Колеблющийся Мышкин его уже изрядно утомил. Теперь Слуцкий князь собирался оставить осаду и идти к Полоцку. По многочисленным донесением из города там уже назревало восстание, жители готовы поднять его, но ждут, кто бы их поддержал с другой стороны стен. Но не только из Полоцка шли гонцы. Неожиданно прискакал весь взмыленный курьер. Он просил помощи для Кмитича.
— Под Витебском на Лучесе идет жестокий бой. Решается судьба города. Часть дивизии Паца сражается против превосходящих сил Хованского, — говорил курьер, с трудом переводя дыхание, словно сам бежал, а не его конь.
— Пац? — усмехнувшись Богуслав взглянул на молодое лицо курьера, парня лет восемнадцати, не более. — Ну, что ж, пускай хоть раз в жизни попотеет наш Великий гетман. Это ему не к молоденьким паненкам приставать и не гусиную печенку жрать! Раз взял булаву, пусть старается. А я иду к Полоцку, мой любый пане. Там тоже решается судьба города. Там тоже нужна помощь. Разорваться на две части я не могу. Увы!..
Или курьер в спешке не успел сказать, или растерялся, или просто это вылетело из его головы, а может и не хватало ума этому молоду парню, но сей незадачливый гонец так и не сказал, что «корпус Паца» это вовсе не сам Великий гетман, это хоругвь Кмитича, где самого Паца вовсе и нет — только его знамена и пехота. Ох, если бы курьер не забыл сказать всех этих простых вещей!.. Ответ Богуслава был бы совсем иным, совсем по-другому спланировал бы он свой маршрут…
* * *
— Уводи пехоту! В рощу уводи! — кричал Кмитич ротмистру Сороке, видя, что жмайты со своими саблями абсолютно беззащитны против пуль московитских пехотинцев, против конных казаков и гусар Черкасского.
— Уходим! — кричал Сорока. Сигнальщик протрубил отход. Но драгуны и гусары продолжали сдерживать натиск вражеской массы. Какой-то казак выстрелил из пистолета прямо в лицо Кмитича. Полковник, защищаясь, машинально поднял руку. Пуля стукнула в металлический щиток, пробив его. Кмитич коротко вскрикнул — пуля обожгла руку. Но полковник тут же перехватил саблю левой рукой, полоснул врага по шее. Кровь хлынула изо рта и шеи казака на его черную бороду, и он с хрипом вывалился из седла. Кмитич, однако, выронил саблю, не удержав ее скользкими от крови пальцами. Он тут же выхватил панциропробойник. И вовремя: на Кмитича на полном ходу несся здоровенный благодаря зеленой фуфайке, одетой сверху доспехов, рыжебородый боярин. Кмитич выставил по направлению к нему длинный граненый клинок, но московит осадил коня и выхватил пистолет. Кмитич на мгновение опередил московита и резко подавшись вперед проткнул тяжелого всадника, как жука булавкой: острый панциропробойник прошел насквозь. Бах! — это выстрелил пистолет в руках поверженного врага. Кмитич вздрогнул — пуля попала в бедро. Московит с выпученными глазами вывалился на левую сторону, унося с собой и панциропробойник. Кмитич остался без оружия. Какой-то гусар тянул поводья его коня в сторону.
— Побережись, пане! — кричал гусар, но вздрогнув, ослабил руку и медленно упал с коня: их в упор из пистолетов расстреливала группа гусар с золочеными двуглавыми орлами на белых кирасах. Едва удерживался в седле и сам Кмитич — еще одна пуля попала в бок, но навылет. Согнувшись и припав к шее коня, оршанский полковник зажимал рану, чертыхаясь, что сил вести бой остается все меньше и меньше. Два гусара, заметив раненного безоружного командира стали защищать его, оттесняя в глубь строя. В этот момент натиск московитов усиливался. Гусар и драгун становилось все меньше и меньше, а к московитам подошло еще двадцать гусар новгородского полка. Их пики впивались в доспехи, сбивали на землю растерявших в пылу боя свои копья литвинских гусар, бьющихся уже одними саблями и панциропробойниками.