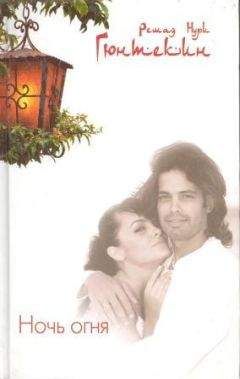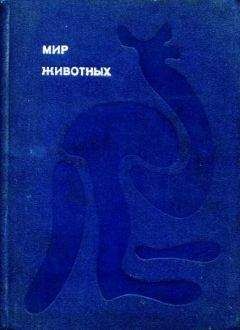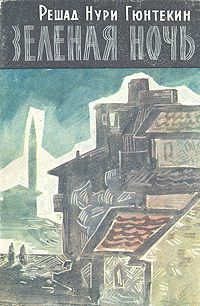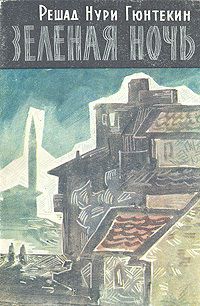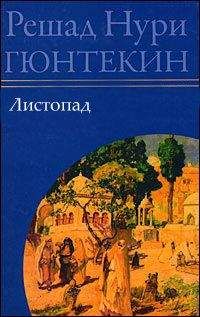Наконец я совершенно вышел из себя, когда Афифе покинула комнату вслед за Кемаль-беем, чтобы побеседовать с ним в прихожей.
Болезнь сделала меня крайне мнительным и недоверчивым. Стоило этим двоим уединиться для разговора, как я заподозрил, что они говорят обо мне, и сквозь шум в ушах почти что слышал, о чем они шепчутся.
Разумеется, этот человек насмехался надо мной в открытую. Я считал, что теперь он, несомненно, пародирует меня. А Афифе смеется, как совсем недавно над оскорблениями в адрес сестры.
На обратном пути я прислонился к стенке в углу экипажа и закрыл глаза. В висках у меня стучало, скулы сводило судорогой. Наконец каймакам заметил, что я не отвечаю на его болтовню, и спросил:
— Что такое? Ты какой-то странный.
В ту ночь я видел врага в каждом. Но на него я злился больше всех, наверное, потому, что он сидел рядом. Мне вдруг показались смешными и карикатурно-позорными все ранее любимые мной черты характера бедняги. Его голос и слова теряли значение. Когда от тряски экипажа его круглое, маленькое тело касалось меня, я с ненавистью отскакивал и хотел лишь выбросить его наружу, словно узел с тряпьем.
Я оставлял его вопросы без ответа, опасаясь сказать что-то из ряда вон выходящее. Когда он обратился ко мне повторно, я ответил безжизненным голосом:
— Ничего, просто у меня болит голова.
— Почему?..
— Я устал от этого неприятного рябого типа.
Каймакам выпрямился и попытался разглядеть
в темноте мое лицо.
— Невероятно. Вот и новая сторона твоей натуры.
Я нервно пожал плечами и крепко зажмурился,
а он продолжил:
— Мне Кемаль-бей показался совсем не таким, как ты о нем говорил. Прекрасный молодой человек: симпатичный, вежливый, воспитанный, приятный собеседник...
Больше я не мог сдерживаться и раздраженно произнес:
— Стоит вам столкнуться с кем-то лицом к лицу, и для вас не существует плохих людей... Все такие распрекрасные, милые и приятные собеседники...
Я хихикал и посвистывал с видом невоспитанного наглеца, показывая, что изначально решил не придавать значения ответам каймакама.
Узрев мое новое лицо, каймакам растерялся. Он велел кричащему вознице медленнее двигаться по разбитой мостовой:
— То есть ты хочешь сказать, что я подхалим?
Я довольно быстро опомнился и понял, что нужно ответить.
— Да Аллах с вами.
Он горько усмехнулся и продолжил:
— Если ты и вправду так считаешь, не стесняйся... Не стоит держать это в себе. В былые годы считалось, что храбрец, который начнет опровергать такие обвинения, ничего не стоит. В определенное время мы все не брезгуем действовать по велению века, пусть же нам это зачтется. Но дело в другом... По какой причине ты сегодня набросился на меня... Я хочу это понять. Это на самом деле важно...
Каймакам повернулся, чтобы лучше видеть мое лицо, а когда повозка особенно сильно подпрыгнула, был вынужден схватиться за крепежи навеса, чтобы не вылететь из нее.
С недавних пор в его поведении возникла перемена. Порой я вспылял по мелочам и говорил, что мне надоело жить. В такие минуты его взгляд менялся, и я видел, как его зрачки расширяются, как будто стремясь увидеть что-то, скрытое в глубине моей души. Продолжая держать глаза закрытыми, я почувствовал, что в этот вечер тоже нахожусь под наблюдением, и сразу же сменил позиции:
— Наверное, я вас обидел, господин... Вы знаете, я болен... У меня семь пятниц на неделе.
Каймакам ограничился словами:
— Ладно, сынок, ладно... Это все тоска по дому, — и, усевшись в своем углу, оперся головой о заднюю стенку.
Когда повозка подскакивала на камнях, поднимаясь в гору, он лишь вопил: «Ой, ой», но больше ничего. Несомненно, я заронил подозрение в душу каймакама. Нужно было обязательно что-то сделать, чтобы рассеять его.
Посетовав на состояние дорог, я сказал:
— Странная болезнь, господин. Смотрите, а сейчас я хорошо себя чувствую... Я даже изменил свое мнение по поводу Кемаль-бея. В самом деле, он милый и воспитанный человек. Вы все прекрасно понимаете...
Он улыбнулся:
— Мы уже помирились, не беспокойся...
— Нет, правда, я не поэтому. Я серьезно говорю, господин.
Каймакам вновь стал заверять меня:
— Ну хорошо... хорошо... Что за причина для серьезных речей? Все болезнь... Полагаясь на твое описание, я посчитал, что этот Кемаль-бей в самом деле безобразный болтун и проныра... А мне навстречу вышел яркий, энергичный человек, проворный, как вода в реке. Ну есть у него на лице пять-десять оспин, ну и что? Важно другое: умное лицо разве можно испортить парой оспин?.. К тому же веселый человек. Дом Склаваки до этого напоминал протестантскую церковь, а он привнес туда вкус и яркость... Ты заметил? Даже Афифе веселая. В конце концов, молодая женщина... Сразу переменилась, стоило ей увидеть рядом мужчину, который хоть на мужчину похож... Малютка тараторит не умолкая, у нее даже глаза смеются... Знаешь, что бы я сделал на месте Селим-бея? Силой отнял бы ее у бродяги Рыфкы-бея и с помощью Аллаха выдал бы ее за этого человека. Они так подходят друг другу...
Эти замечания были просто-напросто ловушкой. То ли из чистого любопытства, то ли проникнув в самую суть проблемы и пытаясь облегчить мои страдания, каймакам ради благой цели попытался застать меня врасплох. Я понял это лишь годы спустя, но хорошо помню, что в ту ночь инстинкт самосохранения приказал мне отнестись к его провокации как можно спокойнее. Темнота частично скрывала мою реакцию на страшные слова, а другая часть пряталась под налетом детской наивности, которая порой более обманчива, чем напускная наивность взрослого человека. Спокойным и почти что веселым голосом я произнес:
— Как бы было прекрасно, господин. Я тоже хочу, чтобы младшая сестра обрела счастье.
* * *
Я видел, как Афифе опирается руками на плечи мужа, как она льнет щекой к его щеке. Благодаря силе внушения, таившейся в необычайно красочных, вульгарных и циничных словах каймакама, я практически собственными глазами наблюдал запретные сцены их супружеской жизни. Но, как ни странно, во мне не пробудилось ничего, кроме жалости и грусти по отношению к младшей сестре. В то же время несколько фраз каймакама об Афифе и докторе, приехавшем в гости, теперь заставляли меня сходить с ума от ревности.
Я не сомневался, что они любят друг друга. Более того! По ночам я практически видел, как женщина со смеющимися глазами тянется к энергичному молодому человеку, проворному, будто речная вода. Причем любовная сцена всегда разворачивалась в моей комнате.
По всей вероятности, отсутствие устоявшихся взглядов на моральные ценности мешало мне признать, что Афифе так быстро пала.
В тот момент я судил об отношениях мужчины и женщины, опираясь на выводы окружающей молодежи, слуг и подобных им простолюдинов. Из этих выводов следовало, что у мужчины и женщины нет причин противиться друг другу. Если же между ними имеется хоть малейшая симпатия, мужчина имеет право в любое время протянуть руку и поймать женщину за запястье, как я Рину, а потом отдаться течению любви, чего бы она ни требовала. Для этого достаточно безлюдного места, пустой комнаты или даже пространства за дверью.
Я полностью потерял уважение к Афифе. Дом Селим-бея казался мне очагом разврата, а Афифе — самой бесстыдной из продажных женщин. Я не замечал, насколько к ней несправедлив.
Еще удивительней — во мне проснулось беспокойство за Рыфкы-бея. Поскольку я не имел права претендовать на что бы то ни было, я мучился, думая о безнравственности Афифе по отношению к этому человеку и даже малышу Склаваки из Измира. Зная, что я никогда не осмелюсь так поступить, несколько раз я обдумывал текст телеграммы к Рыфкы-бею: «Если хотите увидеть позорное поведение своей жены, немедленно приезжайте сюда!»
Мои подозрения в адрес Афифе имели негативные последствия: я лишил себя наслаждения глядеть на ее украденный портрет и пытаться увидеть любимое лицо, прокручивать в голове картины нашей прогулки в саду. Хотя между нами ничего не было, мое самолюбие получило тяжелый удар. Я поклялся, что никогда больше не ступлю на порог ее дома. Попытки убедить себя, что любить настолько безнравственную женщину я не могу, утомляли.
Меня вновь посетила-мысль о самоубийстве, в свое время зародившаяся в связи с отъездом Афифе из Миласа. Но причина теперь была иной. Ведь никто не станет приносить себя в жертву ради женщины, изменяющей мужу и творящей всевозможные непотребства с посторонним мужчиной в доме брата.
Я должен был умереть как ссыльный, у которого нет надежды и будущего. Чтобы сбить со следа каймакама, я пел ему песенку про то, что «устал жить». Теперь же я пел ее самому себе, добавляя мотив тоски по отцу и матери.
На аукционе за пару золотых я приобрел маленький револьвер. Он был покрыт перламутром и напоминал игрушку. Собственно, он и являлся игрушкой не только внешне, но и по своим качествам.