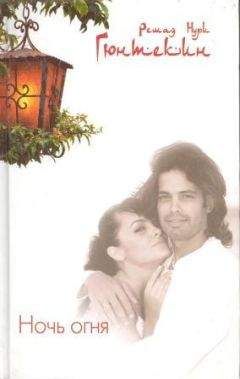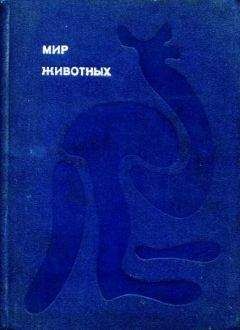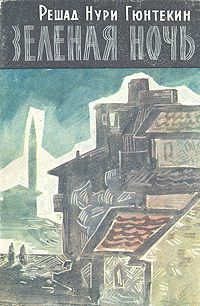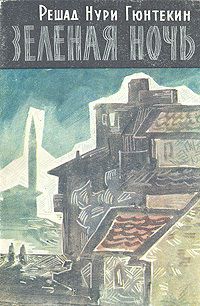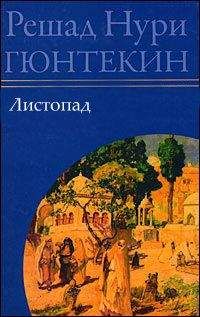Я переживал один из своих нервных приступов, перемещаясь от самого презренного упадка к безумным вершинам храбрости и веселья. В эту минуту все выглядело настолько простым, что мне казалось, Афифе не станет сопротивляться, если я поймаю ее за запястья и прижму к своей груди.
Потребность в горячей беседе заставляла меня говорить опасные вещи.
— Вы правы, сестричка, — лепетал я, — может быть, это болезнь... Я совсем не такой, как прежде. Как вы. сегодня добры ко мне... Впрочем, вы всегда так хорошо ко мне относились... И когда я сломал ногу, и сейчас...
Афифе не осознавала, какой смысл таится в этих словах, похожих на бред, и почему у меня из глаз безостановочно льются слезы. Она смотрела на меня, с трудом понимая, что за услугу она мне оказала, когда я сломал ногу и сейчас.
Впрочем, такие приступы заразительны.
— Вы в самом деле как ребенок, Мурат-бей, — стыдила меня Афифе, но при этом сама начинала волноваться и утешала меня не менее ребяческими словами и жестами.
Беседуя, мы удалялись от колодца и двигались в глубь сада. Каким бы обширными ни были владения Селим-бея, в конце концов, это был просто сад с несколькими фруктовыми деревьями и виноградными лозами. Но в тот вечер прогулка с Афифе показалась мне многодневным путешествием по бескрайним лесам. Через сумрачную листву деревьев пробивался свет. Мы бродили среди стеблей винограда, а затем вновь углублялись в рощу, возможно, ту же самую; Кое-где мы касались макушками ветвей, кустарники цеплялись за наши ноги. Несколько раз я перепрыгнул через яму, возможно, одну и ту же, и помог перепрыгнуть ей, держа ее за руку. При этом я каждый раз вспоминал, как год назад Афифе подбирала юбки, чтобы перепрыгнуть через костер в церковном саду, и улыбался. По-моему, я даже сказал ей об этом.
Наверное, именно благодаря моей болезненной болтливости прогулка в этот вечер длилась так долго, а Афифе настолько забылась рядом со мной. Я помню, как несколько раз заставлял ее остановиться и с жаром начинал о чем-то долго рассказывать. Может быть, мои слова звучали по-детски. Но страсть взрос-
лого человека, бурлившая во мне, окрашивала их в необычные цвета, непроизвольно увлекая и Афифе.
Было слышно, как лает Флора, по-прежнему привязанная к дереву у края главной дорожки. Вдруг Афифе обернулась в сторону калитки и сказала:
— Брат идет.
Это значило, что прогулка закончена. Однако она почему-то решила встретить брата и мужа не на главной тропинке и, проводив меня к задворкам сада, впустила в дом.
* * *
Селим-бей узнал обо всем от старшей сестры. Увидев меня, он с тревогой в голосе спросил:
— Письмо при вас?
Я сунул руку во внутренний карман пиджака, но сразу же опомнился:
— Нет, наверное, дома или в конторе...
— Я хочу видеть письмо. В нем описаны подробности болезни?
— Нет... скорее всего, тот же недуг, что и в прошлом году... Отец говорит, что мать почти выздоровела...
— Почему же вы так разволновались?
— Да вроде бы я не сильно тревожился. Наверное, старшая сестра неверно поняла.
Теперь я думал только о том, как бы замять обсуждение не только бессмысленной, но и несущей опасность сказочки о болезни, изворотливо пытаясь взвалить вину на старшую сестру. Селим-бей взял меня за руку и погладил по голове.
— Если это не какая-то новая болезнь, то не стоит придавать ей значения. Я знаю натуру вашей матери. Худая, нервная, но, слава Аллаху, здоровая женщина... Тем не менее сегодня я отправлю телеграмму майору и спрошу.
Я очень старался отговорить Селим-бея от этой идеи. Но тщетно. Наверное, он считал, что он, как друг моего отца, обязан так поступить.
В тот вечер домашние Селим-бея уговорили меня остаться пообедать. За столом был еще один гость — очень старый и бедный критянин, один из дальних родственников Склаваки.
Чтобы эта странная семейка относилась к вам со всей любовью и нежностью, достаточно было прослыть несчастным. Все разговоры за столом вертелись вокруг моей воображаемой тяжкой доли. Они даже заставляли старого критянина, практически выжившего из ума, рассказывать странные вещи, чтобы, как я хорошо понимал, хоть немного занять и развлечь меня.
В тот вечер Рыфкы-бей скучал сильнее всех. Поскольку у бедняги не было никакой причины симпатизировать моей матери, он был вынужден поддакивать нам, как того требовали правила вежливости, и склонять голову, глядеть с притворным огорчением.
По правде говоря, спекулировать болезнью матери, да еще в какой-то степени истинной болезнью — крайне постыдное дело. Но очевидно, моя личность еще не достигла той стадии развития, когда подобные тонкости становятся явными. Я поддался созданному мной же настроению и испытывал грусть, с полной уверенностью относя ее на счет матери, поскольку страхи по поводу Афифе уже рассеялись.
Я вновь до мельчайших деталей видел лицо матери, о котором долгие месяцы не вспоминал и не грезил.
Когда Селим-бей или старшая сестра заводили о ней речь, я поникал головой и говорил с горькой усмешкой:
— Не расстраивайтесь, вы правы, нет ничего серьезного. Но если дела обстоят иначе, что уж тут поделаешь. Все когда-то умрут... Нужно сохранять мужество!
Сыграв роль фальшивого героя перед окружающими, я отворачивался к окну и, глядя в темноту, смаргивал капли, повисшие на ресницах.
Селим-бей заставил меня выпить бокал вина в качестве успокоительного средства, чем привел меня в еще более возбужденное состояние.
Радость и тоска смешались в моей душе. Они поднимались бесконечными волнами от груди к голове, очертания окружающих предметов смазывались, и я видел лишь лицо Афифе, освещенное канделябрами.
Она неподвижно сидела рядом с мужем, опершись локтями о стол и подперев подбородок ладонями, молчала и о чем-то думала.
Хотя со времени нашей прогулки в саду не прошло и двух часов, мне казалось, что это было очень давно, и воспоминание о ней магически меняло очертания.
Я продолжал слушать чужие речи, отвечать на вопросы, но при этом погрузился в мечты, которые оказались гораздо сильнее окружающей реальности. Я следовал за Ней по бесконечным лесам, чувствуя, как голова идет кругом.
До зимы еще оставалось так много долгих дней! Но, пусть даже в далеком будущем, я признавал, что этот день настанет, и для этого случая я изобрел лазейку... Разлучившись с Афифе, я сразу же покончу с собой.
Любовь, как и прочие болезни, имеет определенные симптомы, которые проявляют себя в определенное время. Самоубийство, скорее всего, один из обязательных, и он даст о себе знать, пусть в форме мечты.
В тот вечер мысль о самоубийстве посетила меня впервые, но не испугала, а лишь пробудила целый рой романтических идей, поскольку отсрочка была значительной, а мысль пока оставалась фантазией.
Тогда я решил, что, если придется умереть, я оставлю Афифе письмо, в котором напишу обо всем. Пока я жив, это совершенно невозможно, но после моей смерти никакой сложности не возникнет. Она непременно зарыдает и, может быть, даже полюбит меня.
Тем вечером мысль о суициде вылилась в потребность выразить свое чувство и снискать ответную любовь Афифе.
С закатом, несмотря на ясную погоду, на горизонте начали вспыхивать и гаснуть молнии. Во время ужина вслед за ветром и громом полил дождь, и пришлось закрыть ставни. Служанка с видом военного то и дело выходила на террасу, прикрыв голову уголком фартука, а когда возвращалась, с ее лица и платья лились струйки воды.
Селим-бей сказал, что в такой дождь я не смогу вернуться домой, и предложил мне переночевать в комнате для гостей. Я же, напротив, именно в ту ночь сгорал от желания бросить вызов силам куда более страшным, чем дождь и буря. Утверждая, что мне непременно нужно вернуться, я с невероятным упрямством сопротивлялся, хотя авторитет членов семьи Склаваки раньше всегда повергал меня в ужас.
Но мысль, которая внезапно пришла мне в голову, заставила меня умерить свой пыл.
Вскоре Афифе с мужем и престарелый гость Селим-бея отправились наверх, а я остался сидеть в столовой вместе со старшей сестрой, погруженной в бесконечное вязание.
* * *
Причина, заставившая меня внезапно изменить решение, была такова: я решил обшарить все углы и ящики комнаты для гостей в поисках фотографии Афифе.
Оставшись в комнате в одиночестве, я долго прислушивался. Затем плотно задернул занавески, хотя дождь лил сильнее прежнего и никто не смог бы следить за мной из сада, и принялся за дело.
В результате поисков, длившихся больше часа, я обнаружил в шкафчике с лекарствами и скобяными изделиями детскую фотографию Афифе, относящуюся к тому времени, когда она еще не закрывала лицо в присутствии мужчин.
Честно говоря, лицо Афифе в те времена никак нельзя было назвать красивым. К тому же она сфотографировалась в шапочке, похожей на хохолок, ужасном платье с рукавами-фонариками и с массой бус на шее. Но это меня не расстроило. Ведь фотография должна была всего лишь дать мне несколько линий, чтобы я мог вспомнить лицо Афифе, когда оно расплывалось перед мысленным взором.