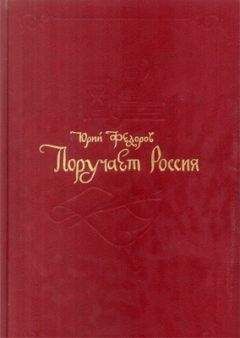Лицом кисла настоятельница от умиления, губы гузкой куриной складывала, глаза щурила, словно на яркий свет глядела. Потеплела настоятельница к старице Елене еще заметнее, как прислали той из деревень ее столовый оброк. Возы пришли нагруженные медом, птицей, мясом, рыбой, грибами да ягодой. О том братцы побеспокоились. Мясо как мраморное, в белых тонких прослойках жира, откормленная птица, рыба из лучших прудов.
Старица вышла к обозу, мужики попадали на колени. Подбежал, скрипя лаптями по снегу, управитель, пригнавший обоз, и тоже бухнулся в ноги. Спросил, не поднимая головы:
— Прикажет ли матушка расшпилить возы?
Старица обоз взглядом окинула. Возы стояли нагруженные высоко. Вокруг по снегу воронье ходило, приглядывалось — может, что перепадет.
Старица на мужиков взглянула. Бороды косматые, армяки рваные. Подумала: «Не разбогатели, видать, без меня. Братцы, знать, — решила Елена, — столовый оброк прислали, но и себя не забыли. Упряжь на лошадях веревочная. Да и рвань одна, узлы. Мужикам-то полегче должно было стать, как я со дворца Преображенского съехала. То, что нынче привезли, — щепоть в сравнении с тем, что в Преображенское ставили. Да… Лютуют братцы, видать».
Но Елена и слова в упрек братьям не передала. Понимала: не время сердить родню.
Управитель все топтался на коленях. Матерился про себя — под коленками-то лед. Старица наконец сказала:
— Встань, Иван.
И велела пять возов настоятельнице отдать, а оставшееся сложить в отведенную для нее монастырем камору. Ушла в келью.
С оброком столовым прислано было Елене письмецо. Разворачивала Елена вчетверо сложенный желтый листок и волновалась. Давно уже слова от братцев не получала.
В письме говорилось, что Алешенька уехал за границу и от отца скрылся. Где он сейчас, никто не знает. Елена растерянно откинулась на стуле и хотела было уже закричать в голос, но сдержалась.
Братцы писали, что от отъезда царевича перемен надо ждать, и перемен к лучшему. У старицы Елены лицо вытянулось: каких перемен ждать? Недогадлива была. Перечитала письмо, шлепая губами, и уразумела одно: письмо писано весело, с большой надеждой, с радостью.
В тот же день отписала бывшая царица братцам, чтобы пояснили об отъезде Алешеньки вразумительно. Но все же радость братцев силы ей придала, и ходить она стала веселее.
Как-то после молитвы осторожненько намекнула Елена настоятельнице: мол, весть имеет верную, что сын Алешенька возвышается. Настоятельница слова те выслушала молча, не моргнув глазом. Но голос у нее подобрел еще больше, словно горло смазала маслом.
Старица Елена, приметив перемену ту, попросила настоятельницу, чтобы к ней в келью беспрепятственно допускали гостей, какие в монастырь на богомолье приезжают. Настоятельница согласие дала. Подумала: «Может, власть за то не похвалит, да где она, власть-то? Неведомо. Еще и так выйдет, что старица Елена самой большой властью и станет».
В церкви на другой день пригляделась к Елене. Та стояла прямая, как свеча, голову держала высоко. «Да, — подумала настоятельниц:,— так сирые и обиженные не стоят».
Как-то в сумерках зашла она в келью старицы Елены; сели под образа, тихо заговорили. Сложна-де людская жизнь. Уж она и мнет, и крутит, и ломает, а все выходит — кому что суждено, от того не уйти.
— А может, погадать? — сказала настоятельница вопросительно.
— Грех-то какой! — Елена руками всплеснула. Настоятельница резонно возразила:
— Гадание не грех. Вот если ворожба — то истинно греховное занятие. А так, на бобах раскинуть, — зазорного ничего нет. И деды наши бобы разводили и через то, бывало, великие дела для церкви совершали.
Заметила, что есть в монастыре черница, которая через бобы судьбу человеческую читает, как книгу. Елена загорелась:
— Позови, матушка.
Пришла черница, согнутая чуть не до полу, села, на платок шелковый бобы разноцветные высыпала и рукой сухой, изломанной, как куриная лапа, быстро-быстро бобы смешала. Тряхнула платок за уголочек, и бобы — странно и страшно — легли звездой. А один, самый крупный, в сторону отвалился. За ним и еще несколько — помельче и не такие яркие — откатились.
Черница со значением посмотрела на Елену, заговорила:
— Истинно глаголю тебе: самый лютый твой враг вот-вот уйдет, прахом рассыплется. За ним помельче люди, что на пути твоем стоят, развеются по всем сторонам. Счастье тебе будет, и счастье сын твой тебе несет. Вижу, вижу, как идет он…
От речей тех старица Елена сомлела. Настоятельница рукой махнула чернице:
— Иди, иди уж… Напугала.
Елене в лицо настоятельница брызнула святой водой. Та открыла глаза. Переглянулись, и настоятельница подумала: «Нет, не зря я разрешила гостям в келье бывшую царицу навещать».
Гости к старице похаживать стали частенько. Сидят смирно. Слушают. Старица говорила темно. Имя Петра не поминала. Жалела все больше о доброй старине. Выходило так: перемен сейчас много, но к хорошему ли они ведут? Раньше и дети родителей почитали, и холопы непрекословно слушались. Смирные были люди. А сейчас и сын отцу дерзит, и холоп на сторону смотрит, да, того и гляди, заведется какой-нибудь Стенька Разин и пойдет сшибать головы. Не лучше ли новины те порушить да вернуться к старому? Гости кивали. Житье и вправду было не сладкое. Деревеньки обнищали. Москва налогами непомерными задавила. Дворянских сынов в службу берут. И никуда не денешься: царев указ на то есть, против ничего скажешь — сломают. Такое было.
А еще старица Елена приглядела юродивого у церкви. Босой, на шее вериги в пуд весом. Голова всклокочена, глаза кровью залиты, глядит дико, мелет косноязычно.
Из церкви шла старица да и остановилась подле него на снежной дорожке. Юродивый на клюках железных скакал к монастырской трапезной. Прикармливали его там: зима-то крепкая, еще замерзнет с голодухи.
Старица огляделась. Юродивый вытянул шею, ждал, что скажет. Елена деньгу ему бросила. Повернулась, пошла спешно. Юродивый деньгу за щеку сунул, горлом заклекотал неразборчивое.
В тот же день старица, укрывшись в келье, долго говорила с настоятельницей. Торопилась бывшая царица, хотелось ей побыстрее гнать время. От одной мысли, что может вновь подняться по ступеням трона, в груди жгло сладко, путались мысли.
О чем говорили они с настоятельницей, никому не ведомо. Но наутро при всем народе после службы, в церкви, на паперти, юродивый встал звероподобно на четвереньки и закричал во весь голос:
— Вижу новое царствие! Царя вижу молодого, и головка у него светлая! Молитесь, люди, за молодого царя! Молитесь!
Народ смутился. Многие креститься начали. Обступили паперть. У настоятельницы, когда слова те услышала, заколотилось сердце. Поняла: плаха за такое может выйти.
А юродивый еще страшнее завопил:
— Молодой царь сменит старого! Знаки к тому есть святые!
И понес уж совсем несуразное.
Люди таращились на вещуна. Юродивый зубами вериги грыз, трясся, подскакивал, урчал, бился о каменные ступени. На него дерюжку накинули, и он стих. Но слова его по Суздалю пошли гулять. По углам зашептали:
— Святой человек и увидел святое. Головка светлая у молодого царя.
В монастырь с того дня народу наезжать стало больше. Старица Елена, когда юродивый на паперти кричал страшное, в церковь не ходила. Лихорадило ее, застудилась, видно Но слона вещие ей передали. Старица подняла изумленно брови.
Разговор был при настоятельнице, но та голову опустила, и все. Старица шепнула постно:
— Провидцы на Руси всегда были.
Подобрала упрямо губы в ниточку, перекрестилась троекратно. Сказала:
— Время рассудит истинность сих видений.
Солдатики, что при монастыре стояли, хотели было юродивого палками побить. Пришли к церкви, закричали. Юродивый к каменным ступенькам припал, тряпками вонючими голову прикрыл. Трясся.
Настоятельница бить его не велела.
Солдатики пошумели и разошлись.
Вечером настоятельница вина им послала. Вино доброе, монастырское, в глубоких подвалах настоянное. Солдатики попробовали — огонь, а не вино. Выпили бочоночек и о юроде забыли. Знать, вино было не простое. Монахини о травах разных знали много.
Памятуя письмо Толстого и совет Федора Юрьевича Ромодановского, Меншиков приискал человечка — бывшего подьячего Посольского приказа, злого выпивоху, но проныру и плута, какие редко встречаются, — и поручил ему приглядывать за людишками, о которых говорил ему князь-кесарь.
Пьяница Черемной принес вести важные.
Авраам Лопухин, брат бывшей царицы, мужик ума не гораздо богатого, посетил австрийского резидента в Петербурге, господина Плейера, и вел с ним разговоры, для державы Российской вредные.
Дыша водочным перегаром, крючок приказной посунулся ближе. Князь, на что уж к вину привычный, и то поморщился, отпихнул его: