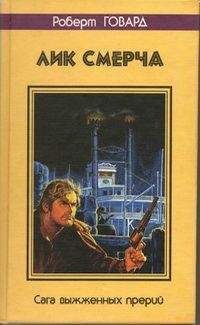И силясь отогнать всплывшее из глубин памяти лицо Феофана, он обратился к склонившемуся перед ним в поклоне дворецкому:
— Вели нести сюда вина и угощений. Зови музыкантов и танцовщиц. Мы желаем весело провести остаток дня.
Затем с улыбкой повернулся к паше.
— Если, конечно, наш уважаемый гость не торопится распрощаться с нами.
Караджа-бей с негодованием отверг это предположение.
Прошло не менее часа. Настроение бейлер-бея заметно улучшилось. Он откровенно блаженствовал, обхватив одной рукой гибкую талию танцовщицы, другой — ласково поглаживая коротко остриженную голову мальчика-прислужника.
Халиль-паша с ироничным удивлением, как-будто впервые, разглядывал лилейное личико своей любимой наложницы, чьи губки невинно пролепетали набивший оскомину вопрос о джихаде. Вот как, и она тоже? Неужели лазутчики Феофана прокрались даже в его сераль?
Мысли о византийцах были ему тягостны. Многолетние тайные узы связывали его с Константинополем. Ромеи всегда оказывали визирю царские почести; сенаторы, чьи рода уходили корнями в седую древность, были рады оказать ему гостеприимство в своих загородных поместьях; торговые дома Империи не раз давали щедрые беспроцентные ссуды, зачастую забывая напоминать о возврате долга. Арабский скакун, гордость конюшен Халиль-паши, был подарен византийцами в благодарность за возвращенный в Константинополь корабль, подвергнувшийся разграблению левантийскими пиратами. Подумать только, вороной жеребец, в чьих жилах вместо крови плещется огонь и чьи утонченные формы повергают в дрожь знатоков лошадиной породы, красавец-конь, за которого визирь, не торгуясь, отдал бы добрую половину своей придворной челяди, был преподнесен в обмен на дряхлое судно с полусотней развешанных на его реях морских разбойников! Подобную любезность трудно не запомнить.
Однако за все в этом мире приходится платить и час расплаты, похоже, уже недалек. Неспроста султан в тот памятный день требовал «отдать ему Город». Уже тогда подозрение читалось в его глазах. Скорее всего, ему не раз доносили о щедрых дарах ромеев визирю, о странной благосклонности верховного советника к крохотному, но заносчивому государству христиан.
Зная мнительный и злобный нрав своего господина, Халиль-паша употреблял весь свой такт, всю свою находчивость, а также свое немалое влияние при дворе, чтобы не только отвести от себя подозрения, но и ослабить враждебную ему партию «непримиримых» во главе с Саган-пашой. Этот круг молодых военачальников, сложившийся в дни усмирения бунта янычар, вспыхнувшего как всегда, в первый месяц правления нового султана, не желал видеть у истоков власти старую элиту Мурада II и потому требовал новой войны, чтобы расшатать уже сложившееся при дворе равновесие сил. Мехмед же, поддаваясь уговорам этих неоперившихся, но уже достаточно задиристых вояк, более не желал и слышать о преимуществах медленного поглощения приграничных земель. Он спал и видел себя Завоевателем.
Ситуация складывалась неблагоприятно: Халиль-паша не мог открыто поддерживать ромеев, но и повернуться к ним спиной — означало потерять голову. Византийская дипломатия крепко опутала невидимыми нитями приверженного к роскоши сановника и хотя срок платежей еще не подошел, визирь не раз ощущал себя на краю пропасти. В Османской империи на щедрые подношения влиятельным лицам всегда смотрели сквозь пальцы, но уличенных в получении подарков от воюющей стороны неминуемо обвиняли в предательстве. А война с Византией вот-вот грядет! Как же тогда оправдаться визирю, как отвести от себя наветы?
Помочь удержаться в седле ему могла лишь отмена штурма Константинополя, но визирь понимал, что частые предупреждения о ненужности этого шага только питают подозрения султана. Объявление джихада и, как следствие, разрастание единичной военной акции в глобальную войну с европейскими странами отчасти снимало ответственность с визиря, но Халиль-паша, как урецкий сановник и истовый патриот и мысли не мог допустить о разгроме своего государства. Человек с обостренным чувством самосохранения, он не собирался отстраненно наблюдать, как горстка воинственно настроенных придворных толкает его ученика на опрометчивый и гибельный для многих поступок. А пока что он, щекоча страусиным пером смуглую шейку наложницы, шутливо допытывался у неё имя особы, сообщившей ей о джихаде. Занятый этим приятным делом, он не сразу услышал у себя за спиной шаги начальника дворцовой стражи.
Склонившись к самому плечу визиря, Улуг-бей что-то быстро зашептал ему на ухо.
— Благодарю тебя, — кивнул Халиль-паша. — Ступай, выполняй приказ нашего господина.
И только тогда, когда дверь закрылась за начальником охраны, проворно вскочил на ноги.
— Вставай, бейлер-бей, — произнес он, поправляя сбившуюся на бок чалму, в то время как наложница оглаживала руками складки на его халате.
— Время не терпит. Вставай и приводи свою одежду в порядок.
— Что случилось? — удивленно поднял голову Караджа-бей.
Но взглянув в серьёзное лицо визиря, понял, что вопросы излишни. Тяжело вздохнув, опираясь на услужливо подставленные плечи слуг, он приподнялся с подушек и приблизился к Халиль-паше. Тот знаком приказал всем убираться прочь и в упор взглянул в глаза бею.
— Наш повелитель только что послал за верховным муфтием, шейх-уль-исламом.
Караджа-бей отступил на шаг.
— Значит, всё-таки джихад? — вполголоса спросил он.
— Нет. У нас есть еще время, чтобы попытаться отговорить султана.
— Но это может стоить нам головы.
— Если позволить Шахабеддину и Саган-паше хозяйничать при дворе, мы потеряем головы еще скорее. Султан был моим воспитанником и я научил его прислушиваться к голосу рассудка.
Давая на ходу последние наставления, визирь быстрым шагом направился в покои султана.
В тот день Мехмед был в хорошем настроении и сразу дал согласие на аудиенцию сановников.
— С чем вы явились ко мне? — спросил он, сидя на возвышении, устроенном таким образом, что каждый вошедший, какого бы высокого роста он ни был, вынужден был смотреть на султана снизу вверх.
— Прежде чем повелитель примет шейх-уль-ислама, мы, твои верные слуги, покорно просим выслушать нас.
— Говори!
— Повелитель, до нас доходят непонятные слухи. В верном и послушном тебе народе все чаще слышны разговоры о скором провозглашении джихада.
Скуластое лицо Мехмеда излучало довольство.
— А если бы и так, визирь? Что удивляет тебя в священной войне против неверных?
Халиль-паша скрестил на груди руки и покорно поклонился. Бейлер-бей, наоборот, невнятно замычал, стал бить себя кулаками в грудь и раскачиваться на месте. Затем поднял голову и смиренно попросил прислать ему шелковый шнурок.
— Я прогневал своего господина и нет мне прощения, — стеная, объявил он. — Пусть свет померкнет в моих глазах, если я недостоин милостей султана.
Визирь присоединился к его просьбе. Мехмед в гневе подскочил на подушках.
— Что здесь происходит?! — заорал он. — Я ничего не понимаю. Вы что, сговорились дурачить меня?
— Если повелитель пренебрегает армией, равной которой нет во Вселенной и объявляет джихад, то это означает одно — в нем исчезло доверие к армии и к опыту своих военачальников.
— А-а, так вот что вас тревожит, — отмахнулся Мехмед. — Нет, бейлер-бей, я не утратил к вам доверия, иначе тлеть бы вашим головам на кольях.
— Вы хотите знать причину? Я отвечу вам, — вновь принялся кричать он. — Если в Риме глава всех христиан во весь голос трубит о крестовом походе, я должен, просто обязан принять ответные меры. И этой мерой будет джихад. Я не желаю испытывать превратности военного счастья. Чем больше армия, тем меньше нежелательных случайностей!
— Мой повелитель, — визирь умело изобразил на лице удивление. — Означает ли это изменение первоначального плана и вместо взятия Константинополя, твои полки двинутся на покорение Европы?
— Учитель, ты хорошо осведомлен о моих намерениях. В Европу я пойду только тогда, когда византийцы, преклонив колени, поднесут мне ключи от своей столицы.
— Тогда я осмелюсь заметить, господин, что чрезмерно большая армия — палка о двух концах. К штурму хорошо укрепленного города она не пригодна — двинувшись на приступ разом, воины в толчее затрут, передавят друг друга. Ей нужен простор, как птице. Она не может остановиться в своем движении: немного найдется земель, способных прокормить такое количество солдат.
— В окрестностях Эдирне твоего приказа ждут сто тысяч храбрецов, — вставил Караджа-бей, — еще не менее двух с половиной сотен тысяч придут к тебе из Анатолии. Аккынджи приведут с собой свои стада, обозы, слуг, женщин. Ты поведёшь за собой поистине огромную армию!
— Я во всем превзойду своих предков, — мечтательно прикрыв глаза, прошептал Мехмед.