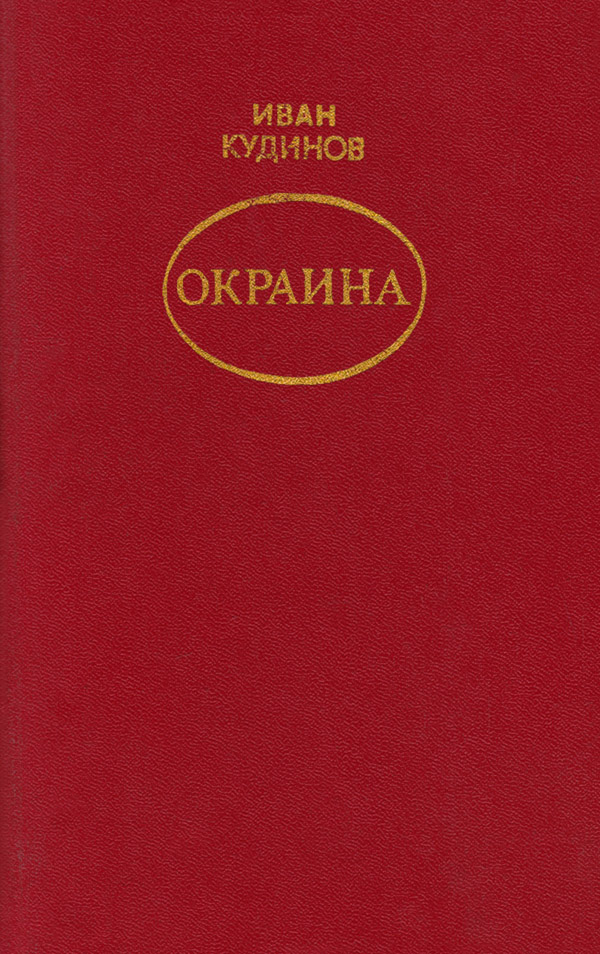вековые,
Централизации свергать,
Сзывать советы областные!
Вот Польша уж давно готова,
Смотри, как бунт кипит!
Украйну будит уж «Основа»!
За кем же дело все стоит?
Одна ленивая страна —
Великороссия — в застое.
Раба царя, все спит она
В бюрократическом покое.
В ней центр царя России,
Центр рабства, деспотизма,
Самодержавной тирании,
Центр зла и византизма.
К тебе из стен тюрьмы взываю,
Отторгнутый от всех людей,
Тебе скажу, за что страдаю
В стране проклятых москалей!
Несносно было видеть мне
Больное сердце всей России.
В великорусской стороне —
Бессудье, вольность тирании.
В ней все от лба царя, министров
Зависит — жизнь, судьба, свобода,
От лба бездушных формалистов
Зависит ум, права народа.
Совет отживших стариков
Судьбой народов управляет,
Совет жандармов-дураков
Совет народный заменяет!
Один из списков попал в руки шефа жандармов князя Долгорукова. Он внимательно прочитал и, желчно усмехаясь, сказал:
— По крайней мере, хоть искренне.
* * *
Наконец воротились из Казани обер-секретарь Синода Олферьев и архимандрит Иаков, занимавшиеся выяснением дела, и представили подробный доклад, в котором, в частности, говорилось:
«Касательно личности Щапова общее мнение то, что человек он весьма ученый и мог бы быть полезным и даже замечательным наставником, если бы не был способен увлекаться обстоятельствами, под влиянием коих находился; так, преподавание его в академии не заключало ничего предосудительного ни в духе, ни в направлении; когда же он поступил в университет, то, будучи увлечен одобрением, с которым встретили его там слушатели, позволил себе перейти границы строгой осторожности в чтении своего предмета; самое название, которое он дал своей науке — «ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА» вместо «Истории Российского государства», — по свидетельству одного профессора, придало особый интерес его лекциям в глазах молодых слушателей. Увлечение этого преподавателя простиралось до того, что он позволял себе цитировать Герцена, Огарева и др., забывая, что ссылка на них может нанести вред неопытному уму не совсем еще разборчивых посетителей его аудитории…»
Товарищ обер-прокурора князь Урусов прочитал доклад, кое-что подчистил, поправил, и 14 июля разослал его по инстанциям — в Синод, митрополиту, министру просвещения, государю…
Пока доклад тщательно изучался, граф Шувалов, управляющий Третьим отделением, не дремал — он счел Щапова сумасшедшим и перевел его в клинику Заблоцкого-Десятовского, попросту говоря, в арестантскую офицерскую больницу. Однако «диагноз» не подтвердился, и вскоре Щапов снова был водворен в одиночную камеру. Ему велели написать объяснение, и он тотчас выполнил этот приказ, добросовестно изложив не только подробности и суть дела, но и взгляды свои на положение современного крестьянства, на силу и значение народа, задавленного бесправием, темнотой, жестокостью государственной бюрократии. Щапов считает необходимым повсеместно открывать сельские школы, создавать областные общества по народному образованию, наконец, говорит о земле, которую должны получить крестьяне без выкупа, об отмене цензуры, о демократизации евангельского учения…
Последнее особенно задело и возмутило престарелого московского митрополита Филарета (в миру попросту Дроздова Василия Михайловича); прочитав эту «ересь», он гневно воскликнул: «Христос создал иерархию, а не демократию! Щапов не нов: «демократическое» христианство уже пытались однажды провозгласить — вспомните Париж 1848 года!.. А чем все это кончилось? Когда парижский архиепископ хотел примирить стороны, дабы избежать кровопролития, он сам поплатился кровью — «демократическое» христианство расстреляло своего пастыря на баррикадах!.. Не к этому ли призывает Щапов?» О расстрелянной же недавно пастве, невинных бездненских крестьянах, митрополит не вспомнил. К счастью, «отзыв» разгневанного Филарета был замят и до царя не дошел. Александр же Второй, игравший роль царя-освободителя, решил сыграть еще и демократа, сделав этакий широкий жест: в середине августа Щапов был освобожден. Он и не предполагал, сколь широкую огласку получило событие, связанное с его именем, ставшим вдруг самым популярным в Петербурге, и несколько даже растерялся: о нем повсюду говорили; издатели, журналисты, студенты, преподаватели искали с ним встреч, хотели сблизиться. Щапов стал кумиром столичной молодежи, не говоря уже о сибиряках студентах. Написанное им в крепости стихотворное воззвание «К Сибири» быстро распространилось, И на одном из вечеров сибирского кружка читали его вслух.
— Вот пример достойного служения! — говорил Ядринцев. — И вот программа нашей дальнейшей борьбы! — с чувством он продолжал. — Ибо без борьбы, как говорит Щапов, нельзя ничего добиться. И Сибирь, как сто и двести лет назад, будет оставаться темной, забитой окраиной, если мы не возвысим свой голос. Пора провинциям вставать!..
— Должен к тому добавить, — сказал Потанин, как всегда, подтянутый, спокойный и рассудительный, — стихи Щапова уже дошли до Сибири. Щукин поместил их в рукописном журнале «Либералист». Николай Семенович пишет, что нет сейчас в Иркутске гимназиста, который бы не читал этих стихов…
— И нет в Петербурге такого жандарма, — невесело пошутил Серафим Шашков, сидевший скромно в уголке, — который бы не знал их наизусть!.. Афанасий Прокофьевич освобожден, однако надзор за ним усилен. Особенно после того, как в «Отечественных записках» появилась его статья… Чем все это кончится, предугадать невозможно.
Шашков жил со своим учителем в одной квартире, и все новости, подробности, касающиеся Щапова, были ему известны. Он же первым из сибиряков узнал через несколько дней о новом высочайшем решении: царь, отменив свой прежний указ, повелел «удалить бакалавра Щапова от должности преподавателя Казанского университета, взыскать с него 450 рублей в пользу… духовной академии; сверх того, подвергнуть вразумлению и увещанию в монастыре по распоряжению святейшего Синода». Профессора Щапова — в монастырь! Это было неслыханно. Узнав об этом, члены сибирского кружка решили составить прошение… нет, написать протест! Но, как выяснилось, протест был уже написан, ходил по рукам, подписи под ним ставили сотни людей — литераторы, студенты, профессора… Началась широкая и открытая агитация в защиту Щапова, организатором и проводником которой был Чернышевский. Он же, судя по всему, являлся и автором протеста, дерзкого и бесстрашного по своему содержанию.
«Дело, считавшееся конченным, перерешается, — говорилось в протесте, — одно распоряжение уничтожается другим. Какое мнение после этого можно иметь о верности правительства самому себе? Одно наказание усугубляется другим — какое понятие теперь надобно иметь о соблюдении правительством коренного принципа уголовного права! Самый род второго наказания — ссылка в монастырь — показывает ли, что правительство чувствует различие между второю половиной XIX столетия и средневековьем?..»
Привести в исполнение «волю святейшего Синода» царь, однако, не решился, опасаясь, как видно, исподволь нараставшего недовольства, готового вот-вот выплеснуться открытым возмущением, бунтом… Больше