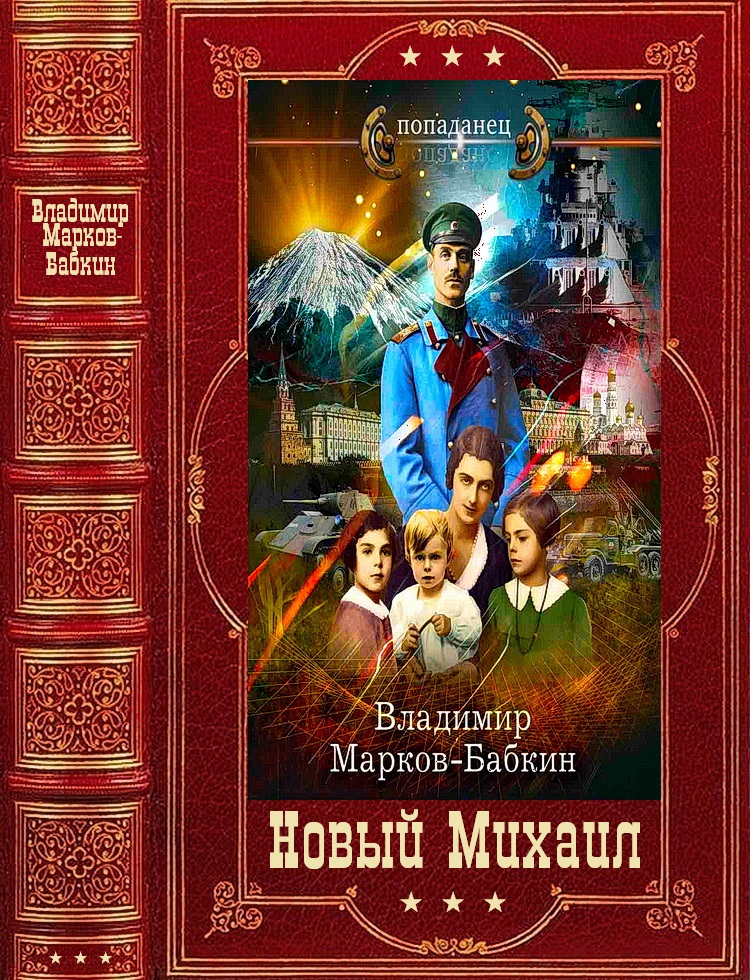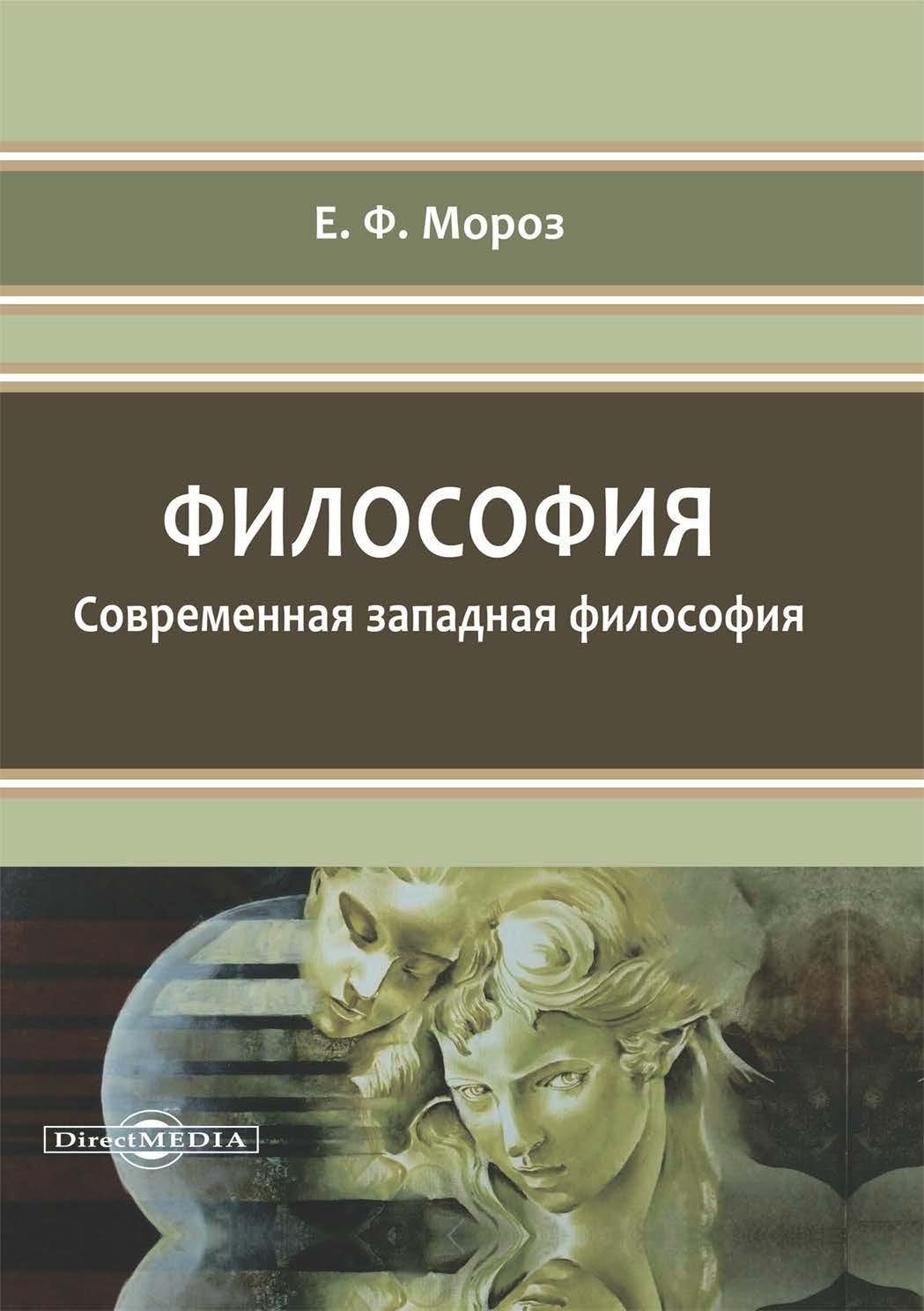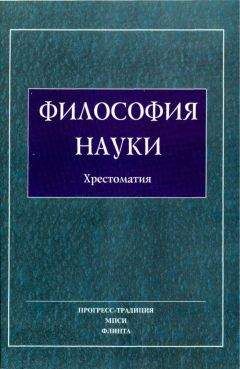становится именем нарицательным. Это слово из языка детей: прячь своего tu, свой tutu. Tutu = ton sexe (твой член). Tu relues tu tu – так, наверное, произнес бы ребенок фразу «нашел чем хвалиться». Turlututu – язвительно поддразнивали окружающие того, к кому относится это оскорбительное замечание. <…>
On sait que c’est (нам известно, что это так). On sexe est (мы есть секс). Местоимение on сначала обозначало секс, затем комплекс значений en, en ce lieu (здесь, в этом месте), а может и en ce l’ye (в этом глазу). Секс обретает символ в виде глаза, d’yeu, слегка приоткрытого отверстия. Что же до местоимения on, то оно относится к неопределенно-личным, а потому все имена, которые оно может заменять, прежде всего соотносятся с сексом, истоком всякого живого слова: Pierre, Jean, Julie и так далее sait que c’est bien (знает, что это хорошо), а отсюда и установленное нами sexe est bien. Движущей силой всякого мыслящего существа, человека, члена единой человеческой или Божьей семьи являются секс, пол, половой орган [87].
Итак, наслаждение вполне в духе платонизма сближается со зрением. Глаз рассматривается как окно, отверстие, буквально то, во что что-то входит и что увлажняется. Так создается связка знания и секса: наслаждение зрения и наслаждение тела лежат совсем рядом.
Подглядывание делает то же, что речь, описывающая секс, – подражает действию, воспроизводит его. Как речь становится напряженной, влажной, неопределенной, томной, так и взгляд становится томным и стыдливым. Речь и взгляд – это два равноправных инструмента.
Далее Бриссе выстраивает и другие соответствия, скажем, соответствие скрытых частей тела и козырей в карточной игре, которые тоже прячут от другого игрока. Секс оказывается игрой с неизбежным выигрышем, которым тоже «козыряют». Бриссе доходит до совсем фантастических объяснений происхождения слов:
Je me exe a mine ai. Tu te exe a mine as. Y ce exe a mine a. Y sexe a mine a. Y le sexe a mine a. Y le sexe a mine a. То есть наш предок осматривал себя, поднося орган к лицу (à la mine) или держа его в руке (à la main), а потом и руку подносил к лицу и осторожно ощупывал его, словно какое-нибудь минное поле. Je mine постепенно становилось che mine, chemine, потом, по родству звуков, превращалось в chemain, chemin (путь), означая: здесь проходит рука. Соответственно, произносивший «я осматриваю себя» говорил, по сути, «я держу свой член в руке». Именно осматривая свое сексуальное орудие, наш предок совершал общий осмотр своего тела; и именно осмотр половых органов – первое, что делают при появлении человека на свет.
Согласно Бриссе, одновременно возникают не только язык и труд, но язык, труд и измерение пространства, чувство расстояния. С этим последним чувством связывается тоска, поэтому человек и бежит сразу к наслаждению. Рассмотрение своих орудий, в том числе телесных, сразу доставляет удовольствие.
А вот дальнейшие наблюдения за окружающим миром веселят, оказываются близки танцу, игре, постоянному показу своего тела. Бриссе утверждает, что древние люди, придя к водоему, видели свою и чужую наготу. Из этого возникло бескорыстное веселье, но и права собственности – каждый хотел защитить тот участок пруда, в котором отражается именно его тело.
Из этих упражнений, защиты права на отражение своего тела, и произошел систематический труд. Когда ты научился охранять и поддерживать отражение, то ты научишься поддерживать и поле плодородным. Слово «себя» тоже созвучно слову «секс»: так из защиты своих границ и рождается особая игра, показав себя, в женском зеркале пруда ты узнаешь себя.
Женщина покажет себя и ответит на шелест первых мужских слов, на это «себе» и «себя», настоящим голосом, звучностью. Ответит звучанием воды как тем отражением, которое непосредственнее нас самих.
Мы не знаем, как устроены вещи, и что думает другой человек, но знаем, что такое «я» и «ты». Потому соблазн и оборачивается тем, что в этих местоимениях мы впервые созидаем себя. Влюбившись, мы создаем себя как мыслящих существ:
Таким образом, истоки возвратных местоимений лежат в размышлениях первобытного человека над своей наготой, и всё, что сегодня употребляется в переносном смысле, изначально относилось к самым обыденным действиям и переживаниям. Сначала слово должно было появиться, а уже затем разум уносил его в небеса отвлеченных мыслей.
Qu’ist ce exe que l’eus? Qu’ist sexe que l’eus или l’ai? Первоначально нынешние формы прошедшего времени относились к настоящему. Je l’eus обозначало je l’ai, и отсюда проистекает простое прошедшее время глагола «читать»: je l’eus, je lus; tu l’eus, tu lus; il l’eut, il lut; nous l’eûmes, nous lûmes; vous l’eûtes, vous lûtes; ils l’eurent, ils lurent. Первые, кто обнаружил, что у них что-то есть (qui l’eurent), были изрядными пройдохами (lurons), и первое, что они слышали или читали внутри себя (lurent), был зов секса. Этот прекрасный зов был подобен лире (lyre), но он мог пробуждать также и гнев (l’ire) и делал вспыльчивым. Именно этот текст и следует читать прежде всего – безумие, бешенство. Секс, соответственно, лежит в основе как привлекательности, так и отвращения. Вопрос Qu’ist sexe que l’eus? вызывал у наших предков взаимную неприязнь, тогда-то и говорили: они друг друга не выносят (s’excluent). Y sais que, ce que l’eus, est = я знаю, что то, что имею, есть. Y sexe que l’eus est = секс, половая принадлежность, вот что у меня есть. Люди одного пола друг другу не подходят – они друг друга не выносят (s’excluaient) [88].
Итак, любовь мужчины и женщины – это всегда особая система привлекательности как привлечения, примерно как в грамматике к корню привлекаются другие части слова или к одной словоформе оказываются привлечены другие, того же гнезда. Такая грамматическая философия секса позволяет понять, что соблазн – это не просто нарушение правил, но определенная дерзость опасно раскрывшей себя, слишком искренней речи.
Ответом на эту речь соблазна может стать только еще более членораздельная речь и еще более искусное владение телом. Из такого телесного искусства и происходит цивилизация как регулярное занятие хозяйством, в том числе интеллектуальным.
Хотя с точки зрения лингвистики Бриссе был фантастом, его подход, связывающий речь, эмоции влюбленности и развитие цивилизации, был близок тогдашней антропологии Люсьена Леви-Брюля (1857–1939), которую обсуждала вся Франция: именно тогда, во Франции начала века, увлеклись африканскими цивилизациями, с их обрядами, искусством и наготой. А от Леви-Брюля пошли многие направления в постмодернистском сопряжении языка и секса, уже обогащенные великими достижениями