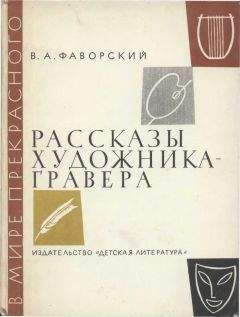— Чего не видали? — бросил небрежно уставившимся на него мужикам, пояснил: — Раков ловил всю ночь! Да под утро задремал в обережьи, они и расползлись! — Сплюнул, дивясь собственному вранью, неторопливо поднял седло и сбрую, пошел седлать и торочить коней.
— Постой, молодец! — строго окликнул его один из давешних купцов, что у ночного костра оценивали Васькину голову.
— Недосуг! — возразил Васька, не оборачиваясь. — Постой, коня обротаю и возвернусь!
Только бы добраться до коня, только бы добраться! Поводного и весь товар, что вез с собою, придется бросить, хоть и жаль до стона. Серебро, слава Богу, зашито в поясе. Саблю с саадаком он волочил с собой. Лишь бы успеть, лишь бы не задержали с конем! Когда седлал, руки дрожали. Вспомнил, что в тороках поводного коня чудная хорезмийская бронь… А!.. Не пропадать же из-за нее! Затянув подпругу, вдел ногу в стремя. К нему уже бежали со сторон, дело решали мгновения. Васька наддал острыми краями стремян в брюхо коню, конь взоржал, взвился и пошел наметом. Вполоборота, наддавая и наддавая ход, Васька видел, что назади скачут трое, за ними торопится четвертый, а вдали уже показался пятый, все ражие, здоровые мужики… "Не справиться!" — подумалось, меж тем как догонявший его купчина глумливо кричал:
— Куда ты, молодец! Сдурел! Чумной! Останови! Поводного коня свово хоть возьми, дурень!
Прочие отставали, конь у Васьки был все же хорош. С разбега скакнул в реку, поплыл, одолевая течение, и почти тотчас услышал плеск за спиной — мужик тоже плюхнулся в воду и уже сматывал аркан на руку, продолжая уговаривать Ваську поворотить в стан.
Васька успел-таки первым выкарабкаться на берег. Вырвал лук из саадака, наложил стрелу. Мужик был от него уже в пяти шагах, но, завидев натянутый лук, остоялся.
— Вали назад, курво! — приказал Васька. — Пропорю насквозь! — И домолвил, чтобы все стало ясно: — Слышал я вашу толковню вчера у костра! Продать меня захотели! — рявкнул, зверея.
Мужик глядел на него с кривою остановившейся усмешкой, ощупывая ордынский нож у себя на поясе. По тому берегу скакала, приближаясь, погоня.
— А ну, вали! — грозно выдохнул Васька, намерясь спустить тетиву, но торговец не стал ждать выстрела, поглядевши в Васькины глаза — понял. Резко вздернув повод, ввалился опять в реку и поплыл, все оглядываясь и, верно, гадая: не спустит ли Васька тетиву?
— Стрелы для тебя жаль! — пробормотал Васька, пряча колчан, и тотчас, повернув коня, пошел крупною скачью.
Преследователи еще долго гнали его, пытаясь отрезать от леса, но в конце концов заостанавливались, заворачивая коней. Вот тут Васька вновь вспомнил о поводном чалом и аж скрипнул зубами: кольчуга, запас стрел, снедное, сухари, добытые в Курске, сменная рубаха и теплая суконная свита, ясский кинжал — все осталось в тороках поводной лошади и досталось Городецким купцам, почитай, задаром. Жалко было до слез, до того, что попадись они ему сейчас, по одинке, один за одним, порешил бы всех и рука не дрогнула!
Снова приходилось скакать украдом, голодать, ночевать в лесу, без конца гадать, завидевши впереди скудный огонек, обогнуть или подъехать? И подъезжал не ранее, чем убеждался, что перед ним такой же одинокий путник ал и беглец. Но и с тем не садился рядом, а баял накоротко и только о самом надобном, выспрашивая дорогу.
Один такой огонек привел его, нежданно, к келье отшельника.
Келья, вернее, пещерка, кое-как накрытая кучею хвороста и палого листа, располагалась в корнях большого дуба. Старик пустынник сидел, пригорбясь, на корне, у крохотного костерка и читал, шевеля губами, большую, в черных кожаных досках, книгу. Заслышавши шум, неторопливо заложил книгу цветной, шитой шелками заложкою, взяв руку лодочкой, воззрился в подступающий мрак.
— Подь сюды, добр человек, не боись! — позвал негромко.
Васька соскочил с коня, вступив в круг света. Старец обозрел его с головы до ног, щурясь.
— Што-то не пойму! — примолвил. — Не тать вроде, но и на убеглого не похож! Да ты садись, мил человек, садись к огню, погрейся, охолонь. Накормил бы я тебя, да хлеба нет, сам липову кору гложу, да орехи вот по малости… Мне, старому, и хватает! Ночуй! Заможешь, расскажи про себя, не заможешь — молчи. Господь нас и без того видит!
Сказал последнее столь значительно, что Васька вздрогнул, почуяв, как кто-то великий смотрит на него с выси Горней, пронзая зраком насквозь. Вздрогнул, поднял голову. Там, по вершинам леса, шел ветер, гася звезды и вея холодом, что вместе с палым листом опускался с вершин дерев к их подножию. Васька поежился, посунулся к огню, все еще думая: не разделить ли со старцем береженую хлебную краюху. В конце концов, сбрусвянев — стыдно стало есть одному! — достал краюху, разломал надвое и молча протянул половину старцу. Тот чуть улыбнулся, принимая хлеб, тоже молча достал горсть волошских орехов, нарванных вместе с листьями, всыпал Ваське в подол.
— На, возьми! — примолвил. — Вижу, от чистого сердца даришь, дак и от меня возьми в дар.
Они сидели друг против друга, подкладывая в костер сухие ветви, и Васька ощутимо успокаивался, "погружался в тишину". Он вдруг задремал, сидя, вздрогнул, разлепивши глаза. Старец глядел на него чудным оком, и Васька, повинуясь его взору, стал сказывать: про детство, младшего брата, братанича, про изографа Феофана, Орду, плен, бегство, про Тохтамыша, про то, как решился бежать, и про то, как в нынешней дороге разбойники оказались лучше купцов…
— Не жалей! — помолчав, примолвил старец. — Не жалей, не разжигай себя! Захочешь отметить, а там снова кровь, чьи-то слезы, иная месть… А придет старость, и что та собина! Думашь, я беден, нужен был? Был я богат, боярин был нарочит у пронского князя! И весь век свой дрожал: перед нежданным ворогом, перед литвином, перед княжою немилостью. Так же вот ся страшил потерять коней, богатство, терема, стада скотинные… Одного не боялся: близких своих потерять! А как в одночасье потерял и жену, и обоих сынов, так и пришло мне откровение свыше! Не жалей! В господних пределах они! И вот взял посох, отвергся одежд многоценных, отвергся славы и почестей, и вот я здесь. Наедине с Богом. И стал спокоен. И уже ничего не страшусь. Гроб, гляди, себе сготовил и могилку вырыл. Почую последний свой час, лягу в тот гроб. Найдется прохожий человек жалимый, зароет меня и утвердит крест. Не найдется — все одно, душа пойдет к Господу, и там, в высях Горних, обрящет породу свою, за них же ежеден молю Вышняго…
Ты то пойми! Вся суета земная — до часу! Богатств стяжание ненасытимо, хочется все большего и большего, а по мере того, как приходят к тебе блага земные, приходят и жадность, и страх, и от людей отдаление. С парнем, с которым, бывало, вместе окуней ловили, уже и не сговоришь: он стал смерд, ты — боярин! Любовь? Дак пойми тово, тебя ли любят лукавые жонки али твое злато-серебро? А приходит старость, и то становит не надобно, а надобно то лишь, что никаким богатством земным не купишь: жаленье ближников твоих, кто бы глаза тебе закрыл честно, не отвернулся от тебя в час твой последний! А за злато того не купить!
Прошлое вспомнишь свое, злобу давнюю — не порадует злоба, хоть бы ты и одолел, и погубил кого… И враг твой дорог тебе, пока ты можешь его унизить, погалиться, повеличаться над ним. Знал я одного, что ворога своего давнего убил, голову отрезал… да положил в мед, и потом почасту доставал, клал перед собою и спорил, толковал с головою той. Мне по раз покаял: мол, все бы отдал, чтобы оживить ворога, услышать его голос, поспорить с им… Так-то вот! Оживить! Черная голова-то была уже, страшная. А он все походит, походит да достанет… И умом тронулся под конец. Из дому ушел, на паперти церковной сидел, в церкву-то и заходить боялси…
Ну, порешил бы ты их, ентих гостей торговых, а у иного жонка, детки растут и не ведают батькиной зазнобы! А тут сиротами станут, будут повторять: мол, тать напал на нашего батьку да и порешил! И ты ненароком взойдешь в дом тот и сумеешь ли сказать деточкам тем малым да вдовице-жене: я, мол, батьку порешил вашего за то и за то? Сумеешь?! А коли сумеешь, дак как станешь Господу отвечать на Страшном суде? Нам-то ведь не то надобно, чтобы ворог твой, из ближних твоих, погиб, а чтобы мучался, ведал, знал. Надобно себя распалять гневом! Ну, а одолел ты вора, того, отобрал краденое добро, и держишь его в руках, и не ведаешь: куда деть? Словно бы сам кого ограбил! Оно уже не твое, уже чужим стало, ничьим. И тати, гляди, нипочем отдают неправедно добытое, то ли пропьют, то ли бросят: руки жжет! Не заработано, дак!
Так что не жалей, молодец! Как пришло, так и ушло. И получишь — не радуйся, и отнимут — не плачь! Земное на земле и оставишь. У Господа иные богатства и суд иной! Уж коли сына послал на крест ради нас, человеков, дабы искупить его кровью греховность нашу, дак и понимай тут!
— Не всегда сходит к нам Господь… — возразил было Васька.