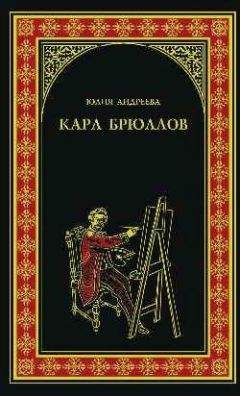Отвернувшись, он смахнул слезу. — По достижении совершеннолетия греческий трон был передан баварскому принцу Оттону. По поводу торжеств в витринах магазинов были выставлены портреты нового короля; трактиры украшались гербами и праздничными лентами; оркестры репетировали прямо на улицах, а гробы все двигались и двигались, грохоча на неровных мостовых.
Гагарин старший был спешно направлен посланником в Мюнхен, Гришка должен был выехать в Константинополь, где его ждало место при российском посольстве. Тем не менее, в Афинах он умудрился отыскать меня, предложив составить ему компанию.
Комфортабельная каюта русского брига «Фемистокл», милые, задушевные беседы, отличная кухня. И что немаловажно, образцово выученная команда, повсюду, куда ни кинешь взор — чистота и аккуратность…
Дальше, дальше… надо постараться убраться как можно дальше отсюда, туда, где меня уже не найдут… шептался я с волнами, наблюдая слаженную работу моряков. Самое смешное, что как раз в это время в Рим была доставлен приказ «О возвращении художника Брюллова для исправления профессорской должности в Академии».
Хорошо, что меня не было в Риме, и я мог еще хоть сколько-нибудь пользоваться свободой. Я обосновался в Константинополе, где гулял, работал, пил целебные воды, просиживал в кофейнях, курил кальян. Словом, жил. Устав от навязчивого общества русских дипломатов, я уговорил Гришу снять в городе комнату на двоих, куда мы вскоре и переехали к общей радости.
Карл вольготно откидывается в кресле, достает из кармана золотой портсигар, открывает, протягивает мне. — Не побрезгуешь? Мокрицкий недавно по моей просьбе привез из белокаменной, — выговаривает он с нарочитой небрежностью, косится на меня: проникся ли? Позер!.. — в сарептской лавке приобретенные по двадцать семь рублей пятьдесят копеек сотня.
Я откладываю перо, лениво тянусь за сигарой. Карл уже отщипнул кончик, поднес свечу. У-у-у блаженство. Какое-то время, молча, раскуриваем. В ожидании моего приговора «хороши ли?» Карл снимает щипцами нагар со свечей. Нервничает. «Хорошо ли? Не зря деньги отдал?» — словно спрашивают его глаза.
«Хороши, не зря» — отвечаю кивком, прижмуривая глаза и по привычке откидываясь в покойном кресле и кладя ногу на ногу.
— Удружил братишка. Потрафил!
— Наверное, застань меня высочайшее повеление в Риме, я пал бы духом, но, должно быть, Господь или кто-то там наверху распорядился, чтобы, живя в Константинополе и читая привезенную Гришей Гагариным книгу Карамзина, я заразился идеей написать «Осаду Пскова», которую было невозможно сделать ни в Греции, ни в Турции, ни в Италии. Когда сложился замысел и я уже почти что бредил картиной сражения, вдруг пришел тот самый приказ, который, не застав меня в Риме, был отправлен сначала в Афины, и затем в Константинополь. Своевременно и хорошо!
Мы слезно распрощались с Гришей, облобызавшись по русскому обычаю, напоследок сказал «прости» всем новым и старым друзьям и приятелям. До самого трапа «Императора Николая» меня провожал близкий друг моего кумира Пушкина Василий Туманский[52]. Ах, Пушкин. Мечтал познакомиться, хотя бы приблизиться, поговорить… теперь и только теперь я вдруг понял, насколько мне нужно в Россию. В Россию, где был он!
После 182-часового изнурительного плавания сквозь шторм, дождь со снегом и снег со льдом 17 декабря 1835 года пароход «Император Николай» прибыл из Константинополя в Одессу, привезя на своем борту шестерых пассажиров, среди которых был я.
Одесса — молодой город Новороссии, юный, по сравнению с другими городами, но норовистый, дерзкий, задорный. Поднялся на месте турецкой крепости едва ли сорок лет назад. Общество, конечно, не Петербург, но тоже… дамские туалеты в большинстве случаев выше всяких похвал — модные европейские фасоны, хотя попадаются и откровенно безвкусные вещи. Женщины говорливы, веселы и смелы до слов и поступков.
В мою честь был дан обед в Одесском клубе, отменный обед с балом, играми и последующим показом городских достопримечательностей. В это же время в Петербурге разразился нешуточный скандал: государю Николаю пришла вдруг охота инспектировать работы художников, которые были высочайше заказаны для церкви Святой Троицы Измайловского полка. В протоколе осмотра относительно выполненных образов было сказано, что те «равномерно дурно написаны». После чего академическому начальству было приказано объявить выговор всем художникам, чьи произведения отметил государь, с составлением соответствующего протокола. В числе не угодивших государю оказался мой учитель Алексей Алексеевич Егоров. Бедный старик! Тысячу раз жалею, что не был в тот момент рядом с ним.
* * *
…Градоначальник Алексей Ираклиевич Левшин, что возил меня в своей карете по холоду для осмотра молодых рощ и садов, был розовощек и говорил по-русски с забавным гэкающим акцентом. Очень ему хотелось заполучить меня к себе художником. Должно быть, рассчитывал, каналья, сделать из Карла Брюллова очередную примечательность, на которую будут потом глазеть приезжие. Знал мое больное место — так сладко пел про местный климат, который более благоприятен для моих легких, нежели столичный. Да еще уверял, что вскорости Новороссия станет как бы второй Италией. Проказник. Граф Воронцов ему в том способствовал, расхваливая местное общество и обещая мне беззаботную жизнь сродни той, что я, по его мнению, вел в Риме. Воронцова Елизавета Ксаверьевна — женщина, воспетая Александром Сергеевичем, — он воровато оглянулся и понизив голос, почти прошептал:
«Прозерпина в упоенье
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет».
Или вот это:
«Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан».
Великий озорник был Александр Сергеевич. Но только вот, что со мной ни делай, даму его сердца я красивой никак назвать не смог. Впрочем, должно быть, к моему приезду она специально растолстела и подурнела. Или вкус у нас не совпадает. Хотя, думаю, мои избранницы, даже те, что на одну ночь, точно не оставили бы равнодушным русского арапа… Таких же, как у него, мне и вовсе не надо. Уж лучше в монахи, чем такое наказание!
Признаться, когда мне сказали, что будет графиня Воронцова, я еще подумал, может, задержаться да… поработать… пописать ту, что подарила поэту талисман, раскрасавицу-то… а как узрел… — «государь торопит… по высочайшему повелению»… в дорожную кибитку и только меня и видели. Зима, мороз, вдоль берега ледяные торосы, зеленоватые, точно стены разрушенного замка, торчат, а я в лисью графскую шубу и в Москву…
— Почему в Москву-то? — не понял я. — Государь в Петербурге ждать изволит, Академия в Петербурге?
Характеристики, данные моим другом признанной красавице графине Воронцовой, меня не просто смутили, а на какое-то время заморозили в соляной столб, так что я не посмел даже возмутиться.
— Надо было, — лукаво усмехнулся Карл. — А тебе зачем?
— Государь ждет, по высочайшему повелению…
Недоумение Карла кажется странным. Я достаю коробку с сигарами, беру наугад, прикуриваю от свечи и только после этого протягиваю приятелю.
— Коли для официальной бумаги, можешь написать, что в Большой театр спешил, на игру Щепкина да Молчанова полюбоваться… шучу. Можно сказать, что по-другому тут и не доедешь… или… ну, в общем, придумай что-нибудь извинительное.
Москва закружила почище Одессы… размах. Шел на один званый обед, с него на другой, следующий… потом бал, гуляния, катания… театр… где-то заночевал и снова визиты, обеды… я не отказывался, да и не особо соглашался, меня просто брали под белы ручки и вели или даже на руках несли в следующий дом. День-ночь, сутки прочь. Устал играть — танцуй, устал танцевать — берут лихача и… сквозь снежную вьюгу — весело! Вечером вдоль улиц зажигают желтые фонари, снег искрится. Замерз — вот фляжка с крепким вином или водкой-медовухой. Выпил и согрелся. А дома — гитары… романсы, цыганские песни… хорошо!
Именно в Москве, на обеде у Матвея Алексеевича Окулова, был я представлен Павлу Воиновичу Нащокину — еще одному близкому другу Александра Сергеевича, который, вняв моим просьбам, согласился написать рекомендательное письмо к Пушкину.
Это письмо было для меня заветным пропуском к великому поэту. Потому как собственная мировая слава — это одно, а вот при одной мысли о Пушкине, не поверишь, робел. Да, казалось бы, князей, графьев сколько на своем веку повидал, с королями, принцами да герцогами дружбу водил. А к нему, хоть застрелись, не смел без протекции явиться. Полным дураком себя чувствовал. Как вспомню стихи его — мороз по коже. Не человек — человечище! Волшебник, бог!!![53].