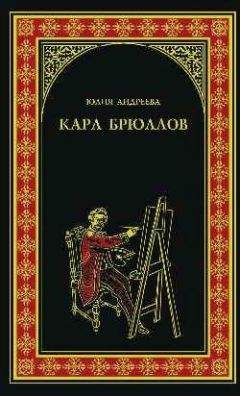В доме Тропинина Василия Андреевича — открытость и радушие. Не только к людям; исполняя старинный русский обычай, Тропинин с супругой каждый день кормят у себя в комнате с окнами на Кремль целое полчище тараканов. А те — умные твари — знают время и являются, как по сигналу, аккуратно в восемь часов. Все, сколько их ни есть в квартире, с семьями да малыми детишками. Попьют, поедят каши и на покой. Василий Андреевич говорит, что после кормления сутки не видит и не слышит этих насекомых. По словам супруги Тропинина, тараканы несут в дом богатство. Посему обидишь таракана, пеняй на себя: заказов не будет и, как следствие, денег.
Василий Андреевич нынче первый портретист Москвы! Заказов у него на много месяцев вперед набрано. Должно быть, тараканы дело знают. Подсуетятся, где надо, глядишь, в скором времени и переедет Василий Андреевич в собственный дом из частного, что у Каменного моста, где он снимает квартиру. Хотя Тропинин из бывших крепостных, в сорок семь лет вольную получил, так что вряд ли решится когда-нибудь собственным домом обзаводиться. В Петербург его звали, зазывали… да он общества чурается, говорит, лучше уж в тихой, спокойной Москве век доживать, лучше в безвестности, чем среди чужих ему людей, в океане страстей и интриг…
И то верно подмечено, Москва — тихое, покойное, патриархальное место. Хорошо бы на старости лет поселиться где-нибудь в ее нешумном центре, подальше от хлопот и жизненных превратностей. Вот и его сиятельство граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин по декабрьскому делу сначала был заключен в крепость, откуда отправлен в действующую армию на Кавказ. Послужив полных два года, граф получил предписание, обязывающее жить в Москве, что лишний раз подчеркивает спокойный характер этого милого города….Из гостей в гости, потом снова какие-то гости, потом театр, Щепкин Михаил Семенович, очень приятный человек. Обязательная опера, потом за город — в санях кататься, а после гуляние. На мне шуба лисья, теплая — страсть, сам-то я холода дюже боюсь и болею, и мысли разные, все больше печальные, одолевать начинают. От того с собой вина наикрепчайшего несчетно, пирожки, шанишки, пряглы, лепешки со всяческими припёками. Сколько и чего, не скажу. Много. Все теплое, прислуга специально в особый короб уложила, платками да полотенцами завернула, да только разве так жар на морозе-то убережешь? В рот их, сколько ни есть, еще на пути к цели, щедро запивая водкой или коньяком. Ничего, на месте еще раздобудем. На Великой неделе недалеко от села Новинское — гуляние. Качели, карусели, балаганы с куклами да сколоченные на скорую руку, яркие, как все вокруг, едальни. Раскрасневшийся, потный мужик в пестрой рубахе с заплатами-ластовицами под мышками весело подзывает желающих отведать блинков, которые он тут же печет сразу на двух огромных сковородах. Девчонка лет двенадцати, рыжая да веснушчатая, тут же накладывает на тарелки грибки да жареный лучок; желающим отведать сладенького, мальчишка, сын блинодела, щедро обливает блинки медом и вареньем.
Пляски с медведями и дрессированные, обученные арифметике собачки, жонглер и обязательный атрибут любой ярмарки — факир, для чего-то на этот раз названый ученым-физиком из Багдада.
В Москве — особый дух, не похожий ни на Питер, ни на что иное. В Москве были написаны тропининские «Золотошвейка» и «Кружевница», там же я создал свою «Светлану», ну, ты видел. Балладой Жуковского навеяло.
Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Темно в зеркале; кругом
Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнем
Чуть льет сиянье…
Перовский Алексей Алексеевич, у которого я имел неосторожность поселиться, ел меня поедом, отчего я пьянствую с друзьями, тратя драгоценное время, отпущенное мне Всевышним, а не заканчиваю полюбившееся ему «Нашествие Гензериха». Я пытался объяснить, но… какое там… да, боже мой, при всем уважении к нему, не дело, живя в Москве, писать Рим и в Италии — тот же Псков! Другая натура, земля, воздух — все другое! Не понимал!
Написал его портрет — хороший, честный. Сам Алексей Алексеевич хвалил, но… добрейший, если разобраться человек, недужный только и, должно быть, от того нетерпеливый и излишне требовательный. Вот заладил: пиши ему Гензериха, и хоть я тут костьми ляг, от своего не отступил бы.
Семенову писал — раздобрела княгиня, раздалась… да и сдала, если честно. По-старушечьи оседать начала, и во взгляде и даже голосе что-то точно надтреснуло, так что хоть и по-прежнему хороша была Федра, а вот что-то в ней уже порядком прокисло.
Свел знакомство со скульптором Витали Иваном Петровичем, который потом изваяет меня, а я за это напишу его. Тут же Ванька Дурнов суетится, старается со всеми меня перезнакомить, повсюду поводить. Маковский Егор Иванович — бухгалтер Экспедиции кремлевских строений и так-сяк художник, с красавицей-женой Любовью Корнеевной. Тоже ее писал, не как-нибудь, в мехах… Красивую женщину вообще приятно писать — хоть в соболях, хоть вообще без ничего… М-да… без ничего… натурально…
В Москве, как известно, художественной школы отродясь не было, а вот желающих учиться хоть отбавляй. Вот так и получилось, что Маковский придумал организовать натурный класс на Ильинке, в квартире художника Ястребилова. Там и собиралось общество, чем-то помогали друг дружке, передавая опыт и копируя ту или иную гравюру, а то и приглашая неопытных натурщиков позировать. Впрочем, я того класса уже не застал, так как к моему приезду генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын уже дал разрешение открыть в Москве художественный класс на Никитской, где 28 января 1836 года был устроен обед в мою честь.
Там и ученика своего первого — бывшего крепостного графа Мусина Пушкина обрел. Хорошо! Вот как выходит, душа моя, что Карл Брюллов, при всех своих недостатках, а хоть бы именем своим какую-никакую пользу приносит. К примеру, класс на Никитской или опять же «отпускная» Липину, которого благороднейший человек Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин на волю отпустил, дальнейшее его учение в Академии оплатив. А не взял бы я ученика? Вот то-то и оно.
Но что самое важное, то, из-за чего непременно в Москву надо было ехать, — с Александром Сергеичем знакомство свел! Да не как-нибудь по пьяному делу, как это у нас, художников и литераторов, испокон веку заведено, и не я его искал, заветное рекомендательное письмо Нащокина на груди своей исстрадавшейся согревая, а, можешь представить, он меня!
В самом начале мая[54] зашел он к Перовскому визит нанести, потому, как доподлинно знал, что я там. Познакомились. А я как раз на месте. И не в стельку пьян, как тебе это, наверное, воображается, а с утра не пригубивши. Алексей Алексеевич, бестия эдакая, мне только рассольчику да щей суточных изволил налить. А вино или медовуху строго-настрого запретил подавать.
Так, можно сказать, за мольбертом меня наш гений и застал. Я как раз хотел перерыв сделать.
Рисунки, эскизы смотрел, что-то хвалил, теперь уж не упомнишь. А… «Нашествием Гензериха» восторгался. Как это только он умеет — шумно, весело! Говорил, что видел «Помпею», но только «Гензерих» и ее переплюнет, встав выше! Дивный рассказчик, так бы слушал его и слушал! А как много знает, насколько приметлив!
Потом, когда я уже от Перовского дёру дал, он туда без меня еще заходил, на «Гензериха» смотрел, о чем я доподлинно знаю от самого Алексея Алексеевича, он таким хитрым способом пытался меня вновь картиной заинтересовать и через то вернуть. Другой раз у Витали пути сошлись[55]. Иван Петрович, оказывается, давно уже Александра Сергеевича к себе зазывал бюст лепить, а пока тот не шел, Витали уговорил меня позировать ему. Решил запечатлеть, и все тут. Мол, обидится кровно, коли опять мимо мастерской щеглом развеселым пролечу. Что тут поделаешь, пришлось поскучать. А тут и Пушкин пожаловать изволил. Вот радость-то!
Витали все его усаживать пытался, а тот ни-ни… Не позировать, душевно пообщаться, мол, заходил, женой своей хвастал да как бы, между прочим, и приговаривал, мол, истинному скульптору было бы лестно изваять Наталью Николаевну, потому что та красоты невозможной, и надо бы такого ангела непременно запечатлеть.
Впрочем, если бы Витали решился жену лепить, он бы тогда тоже согласие свое дал. Позируя для вечности, скуки бы хлебнул. Между бокалами и сигарами, что из Сарептской лавки на Никольской, меня в Петербург зазывал, раскрасавицу эту неземную рисовать. А я? Для друга всегда готов.
Как на духу, на 14 мая договорились, еще пару дней позировал перед Витали, и потом он передо мной, и 18 мая заглянул в последний раз к Маковскому, где собрались в мою честь друзья, к Пушкину[56] забежал — он у Нащокина остановился. А от него уже в дилижанс и прощай, Белокаменная! Прощайте, кремлевские друзья!