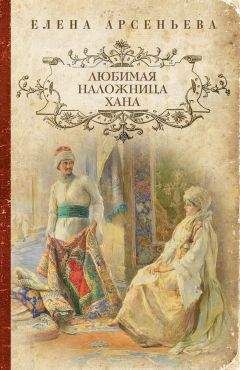«... Голос Духа слышишь, а не знаешь, откуда приходит он и куда уходит...» Вишь ли, горазд и самонадеян, собрался учить нас, замысля на дурное. Много сыскивалось тех учителей, да не всякая наука в толк. От южных словен робенок прибрел, таясь, к северным барбарам, чтобы высмотреть Русь и после донесть еретикам. Поди, вновь зубы торчат, не замыслили ли что дурное? Ну-ко, ну-ко, чему ж ты собрался выучить нас, прелагатай?»
Государь открыл сочинение и прочитал первое, что палось на глаза, задавливая сердитость: «В Светлое Воскресение и лютому врагу кинь соломину через пропасть». «Никто да не берет на себя отгадывать или судить тайны царя. Царские думы, если не содержатся в тайне, не имеют никакой силы. Никто не должен творить себя ценсором царской думы. Никто под опасением преступления не может делать сходбищ и разбирать думы или обсуждать причины, руководящие царем, ибо над царем нет другого судьи, кроме Бога».
...Воистину логофет и филозоп этот бродяга. От обсуживания падают престолы и идет разброд; шатание же несет погибель и самой великой державе. Но где мера та? сладкое разлижут, горькое расплюют. Как бы отличиться от деда Ивана, не впасть в его неистовство, но и с Борисом Годуновым не сродниться. Христолюбив был царь и добродетелен, но, строя Дом, едва не сокрушил его. Каков изъян сыскал Господь в его честной затее? что за змий сокрушил, напустя лихолетья?
Царь-государь! нет тебе минуты покоя, и даже в благорастворенный день не уйти от дел. Для чего-то же совпало? чуждый, незнакомый человек повторил на бумаге тайное послание Святого Духа. Как глубоко, однако, и повсеместно проливается его воля, коли полоняет и еретика.
Алексей Михайлович вздрогнул от внезапного озноба. Последнюю седмицу ни крошки в рот, и теперь, вот, схватывала голодная лихорадка. Слаб, слаб человече, гнетет его утроба, как бы ни велика была душа И невольно помянул государь Никона, ныне торящего долгий путь; вот и огромен человек, но лощение ему за усладу. Это Господь рождает таких себе в дружину. Вспомнил государь Никона и как бы похристосовался с ним, обогрелся и повеселел. Он кликнул истопнику, что стоял при дверях, принесть кубок гретой романеи. Потом позвал Хитрова; переломив себя, упрекнул, что слишком долго держит душу на спальника. Окольничий за-ради Светлого Воскресения был в парчовой ферязи, шитой золотом, и парчовой же шапке с собольим околом. Царь придирчиво оглядел окольничего и тайно поймал себя на дружелюбии к Хитрову. Голубые, какие-то призывные глаза спальника были простодушно чисты. «Плут, ой, плу-ти-на», – мысленно воскликнул государь и насуровился. С этим сердитым видом подал пасхальное яйцо из блюда. Они похристосовались. Алексей Михайлович невольно принюхался: табачиной от Хитрова не тянуло. Царь погрозил пальцем и открыто улыбнулся:
– Я тебя, Богдан Матвеевич, терпеть не могу, а все милую.
Хитров поцеловал крашенку и с замглевшим от печали лицом земно поклонился государю, благодаря за благословение.
– Ты ответь мне: серба-бродягу куда затворили? – спросил царь.
– А кабыть в англикский двор. Я было его в пытошную, думаю, дай встряхну шиша. А Нащокин перехватил. – Хитров вопрошающе взглянул на государя. У того было желтоватое, притрушенное усталостью лицо, но взгляд доверчив и тих. Царь покоился в креслице, набранном из слоновой кости, и смотрел в никуда. Он хотел уединения, но дворцовый порядок требовал нарушить его. Язык сковало горькой накипью, и каждое слово приходилось выдавливать. Государь отхлебнул романеи и сразу замлел.
– Ты скажи... Вот обыскался. Памяти никакой. Самолично же писал...
– Так мне же и отдал, государь. Я все исполнил, как велено было, а мой подьячий Федор Казанец получил из Кормового дворца корм для арестантов и передал в поварню. Ествы давать лутчим по части жаркой, да им же всем по части вареной и по части бараньей, по части ветчины. А каша из круп грешневых, пироги с яйцами или с мясом, что пристойнее, да на человека купили по хлебу, да по калачу двуденежному. А питья: вина лутчим по три чарки, а остальным по две; меду лутчим по две кружки, а остальным по кружке. – Спальник доложился единым духом, не сводя с государя подобострастно-нагловатого взгляда.
– Не лишку будет? – и тут же перебил себя: – Да нет-нет... Господь на свет всех попускает. Христос нынче воскрес и для них. Пусть же прольется свет благодати на нечестивцев, шишей и бродяг и пробудит в них человеческое. И железо ржа ест, а тут, поди, живая душа-то, не каменная... Ну, одевай меня, Богдан Матвеевич, да с Богом. Время не терпит...
Поверх шелкового зипуна облачил Хитров государя в становой кафтан и суконную однорядку, на голову – шапку лисью: обычный царский сряд по мокрой и ненастной погоде. А нынче на дворе весна затеялась, но и зима не отступила. Печатая каповым посохом, скинувший с себя смуту и предутреннюю хмарь, молодой и улыбчивый, с влажным блеском распахнутых карих глаз, царь стремительно вышел на спальное крыльцо. И на короткое время застыл, избоченясь, изумленный радостной пестротой мира. Теремная площадь кипела праздничным людом; даже соборные купола и розвесь старинных берез были вынизаны зеваками. Грачи галдели, согнанные со своих гнездовий. Сразу же ударил большой Борисов колокол, возвещая столицу о «тайном царевом выходе», и вся Москва, что в ожидании государя скопилась на Теремной площади, как подкошенная, повалилась ниц, не разбирая сухого места. И единый вздох благоговения покатился от Красного крыльца вниз к Москве-реке и Неглинной, за Пожар и за Болото, по обе стороны Кремля, куда и выступил милосердный царь. И в темницах, кроме заклятых душегубцев, воспрянули все колодники, ожидая милости: нынче государь жалует не только деньгою и ествою, но и волею.
У крыльца государя поджидала вахта, человек пятьдесят стрельцов в алых кафтанах, с праздничными вызолоченными топорками, выданными из царской казны на сей день; был тут и голова московских стрельцов Артемон Матвеев. Своей воинской статью, какой-то природной бравостью, бархатно плоской черной шапочкой с тульею на темных кудрях, коротким походным кафтаном из рыжей кожи с серебряной перевязью через плечо – он выгодно отличался нездешностью вида и притягивал взгляд. Он издали почтительно приветствовал государя смиренным наклоном головы, но сам, однако, незваный не поспешил навстречу. Хитров выглядывал на этого выскочку из-за покатого плеча государя с пристальной ревностью, словно бы выпытывал уязвимое место. Царь вдруг оглянулся, перенял у дворецкого обливное тяжелое блюдо с крашенками и самолично передал Хитрову. Тот капризно вздернул головою, но тут же и унял себя. И разве дело? начальник Земского приказа тащится с чашею пасхальных яиц, как последний подносщик. Пусть в тюрьму, на чепь, на дыбу, куда угодно, пускай вотчины отымут в государеву казну – только бы не этот позор. Скоро пронесся в мыслях невидимый бунт и тут же потух, темно уязвив сердце окольничего. «Чего раззявился, б... сын!» – оттолкнул в сердцах замешкавшегося на крыльце служивого; тот едва отстоялся на ногах. Хитров мстительно, зорко оглядел худородного, запоминая его на всякий случай. Ишь, расщеперился гусь Вся земля идет через Земский приказ, и тебе, сукин сын, не миновать сего двора...
Царь допустил Артемона Матвеева к руке, и «тайный выход» тронулся. Государь со службою, обочь стрельцы с топорками, позади десять жильцов-подносщиков, кому судьба таскать до прошаков подачу, да стольник-принощик Василий Пушечников; замыкали выход возы с шубами, рубашками и портами, с калачами и яйцами, с перепечами и хлебом житним. Сам государь являлся в народ с поклоном и милостыней, предлагая люду тихомирность свою и благой, желанный Христу пример. И сейчас, какой бы нищий и убогонький, инвалид и калика перехожий иль просто бедный и несчастный погорелец ни случились на пути, ни один не останется без милостыни, каждому найдется чем разговеться, каждый Христовенький нынче с праздником. По такому случаю множество нищих стеклось в престольную, чтобы зреть царя и накормиться из его рук...
Около Фроловских ворот, как перейти ров с водою, у каменных застенков выход разделился. Артемона Матвеева царь отправил к Лобному месту, чем посластил душе Хитрова, Василия Пушечникова с подачею услал на Пожар, сам же отправился в Земский терем. За деревянным тыном нынче тихо, нет ни ругани, ни вою, никого палками не потчуют, не выправляют на правеже долги и повинности, одни сторожа с батожьем, слегка захмеленные, им государь выдал по полтине и допустил к руке. Сошли по лестнице под палату, в сырое подземелье. Гляди, царь, гляди в науку, не так ли в аду принимают грешника. Спеши делать добро, ибо кто разумеет вершить его и не сотворяет, тому великий грех.
В печурах горели сальницы, вонь от тюленьего жира слоилась под потолком, на стенах плясало зарево топящихся печей. Из одной каморы неожиданно появился истопник, вынес кадь с лайном и, увидев государя, испуганно застыл, растерялся, подскочил стрелец и ратовищем бердыша решительно отпихнул его за угол. Дверь осталась открытою: за спущенной решеткой в углу на клоке соломы сидел колодник, ровно протянув по земляному полу ноги в бараньих чунях, голые лодыжки обхватывали ошейники кандалов. Конец цепи был заклепан в стену. Колодник хлебал горстью из мисы какое-то варево, капустные листы налипли на пальцы и седую, давно не стриженную бороду. Он лишь на мгновение отвлекся от выти, встряхнулся всем телом, как замлевший от лежания лесной зверь, но не затем, чтобы умилиться явлением государя, но чтобы еще усерднее приняться за еству. Колодник не ждал милости и оттого жил спокойно, дожидаясь конца, он пропадал в застенке, вроде бы ненужный миру, но народ, вот, кормил душегубца, не давал помереть. Невидимая вервь непроторженная связывала его с волею, ныне славившей Христа. Значит, и душегубец важен люду, раз хранит его Господь? Душегубец нужен нам, чтобы стеречь наши души, решил государь, уставясь в полумрак.