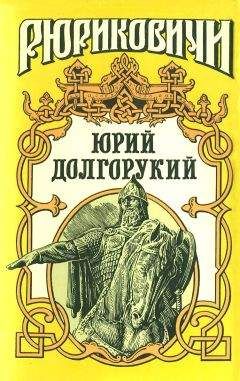Боярин твердил, угрюмо выслушав князя:
- Ты этого хочешь, княже, не оттого, что стрелы чужие грозят тебе отовсюду. Ты этим силу свою крепишь, дабы в уделе своём быть сильнее бояр. А может, сильнее бояр и в других уделах? Лукав!
- Но я прошу не ради себя, а ради общего дела!
- А наше боярское дело чьё?
- Ваше только. Своекорыстное дело!
Боярин слушал, хмурился и молчал. Наконец, пересилив стыд, он сказал с тяжёлой усмешкой:
- Добром ты усадьбу просишь… А княжич Андрей мне мечом грозит. Жену мою на позор и мой гнев обрекает. Ишь ходит - бледна… безумству душа подобна!
Не выдержав, Кучка всхлипнул:
- Знать, снадобьем опоил он боярыню… Видишь? Себя не помнит!
Князь мягко тронул красную руку Кучки:
- Она молода. Обойдётся. - И, вздохнув, с печальным упрёком добавил: - Поторопился выдать её за тебя Суеслав Ростовский. А ты поспешил жениться: стар ты, Степан Иваныч, для юной девы.
Боярин обидчиво дрогнул:
- Немногим тебя старее…
Но князь, улыбнувшись, ответил:
- Так я и живу со старой!
Порозовев от женской обиды, княгиня спросила его с упрёком:
- За что меня обижаешь? Князь весело досказал:
- О том, матушка, что на младых не гляжу! И вновь повернулся к Кучке:
- Младому младой и нужен. Вон сын у меня - Иванка, а дочь твоя - Пересвета… младым совместность - добро!
Боярин опять замкнулся и промолчал.
- Так что же? Ни так, ни этак? Ни в торг, ни на свадьбу?
Не отвечая прямо, боярин истово поклонился:
- Отведай еды моей скудной, княже!
Князь резко дёрнул бородку, крякнул и отвернулся.
- Ну, коли так, пусть так! - сказал он сердито. - Однако, боярин, помни: худо будет тебе и здесь. Как их ни останавливай, а начнут мои смерды сечь тут лес, орать с весны пашню, бортничать[22] по твоим лесам…
С особым значением он прибавил:
- Андрейшу строить город пришлю… Кучка быстро ответил:
- Тогда я с Настей в Суздаль уеду.
- Вотчину так и так не продашь? И Пересвете не дашь с приданым?
- Нет. В приданое с Пересветой тоже не дам: самому сгодится. Лучше ты сам продай мне княжий посёлок на сей реке…
Князь шумно встал:
- Спасибо за хлеб да за соль. От двери он обернулся:
- Меня ты ещё попомнишь! - и вышел вон.
Ты далече ль едешь?
Куда путь держишь?
Скоро ль ждать велишь,
Когда дожидать?
Былина
Охранная княжья дружина стояла в посёлке три дня, дожидаясь прихода главной бойцовской рати. За эти три дня зима укрепилась. Мороз, как ловкий кузнец, заковал в свои панцири сильную воду Москвы-реки. Густо лёг снег. Всё стало вокруг нарядным и тихим: на землю спустился мир.
Греясь возле костров, разминая наутро иззябшие и затёкшие от неудобных ночёвок ноги, воины князя кричали:
- Ого-го-о!
Снег от этого сильного и весёлого крика вспархивал с веток и долго сверкал и кружился, подхваченный ветром, облитый румяным солнцем.
- Вот и опять зима к нам на Русь пришла! - говорили, невольно любуясь прелестью мира, добрые люди.
Другие предупреждали:
- Не радуйся зря-то: начнутся теперь морозы. Михайла да Юрий[23] - пред зимней бурей!
- Потом Варвара заварит!
Весёлые соглашались:
- Трещит Варюха, береги нос да ухо!
- Придётся теперь беречь!
Но в голосах людей, опасающихся морозов, легко звучала общая радость. А снег, казалось, почуяв это, всё падал и падал. День ото дня он всё гуще валил с небес, скрывая земные раны, ямины и овраги, ржаво-жёлтые косогоры, обтрёпанные ветром кусты, корявые кочки пней, звериные норы, сор. Он покрывал пушистым платком зимы поля, леса и дороги. Смутное небо было похоже на безмерно большой сугроб, с которого ветер сваливал вниз большие охапки снега.
На третий день снегопад прекратился. Украшенный белой порошей, мир открылся ясным глазам людей, как новая смоляная изба: встань в ней, новой и чистой, встань и возрадуйся вечной сладости жизни!
Так и взглянула на мир Любава.
Рано утром вышла она к реке с деревянным ведром, сделанным из дуплистой осины. Вышла и удивлённо встала под взгорьем - так было повсюду славно! Попеременно она взглянула на красное зимнее солнце, медленно лезущее на синее небо из-за тёмных лесов Заречья, на гладкий прозрачный лед с живыми, переливающимися на фоне тёмной воды воздушными пузырями, на дальние дымы у Яузы и на горах за рекой, и у Кучкова поля, где были боярские сёла, и на дымки, повалившие вдруг из тёмных и низеньких изб посёлка, где бабы, раскрыв скрипучие двери, чтобы дать дыму выход, начали новый день.
На сердце Любавы лежал покой: кончились дни скитаний. Пришли, наконец, бежане на тихий кусок земли. Хоть голо пока в их жизни, несыто и тесно, ан - угол есть!
Вначале, когда пришли, старик Феофан-черноризец позвал к себе Страшко и Любаву с Ермилкой в тёмную келью возле церковки согреться. Они там согрелись, проспали первую ночь. А утром не только Любаву с Ермилкой, но всех бежан поставил княжеский зодчий, старик Симеон, в нагретые избы.
Страшко не стал отнимать избу у Федота, хотя, как тиун, и мог бы. С Любавой и сыном он отошёл на постой к одноглазому, хитрому Полусветью. Демьян да рыжий Михаила с бабой Елохой, сыном Вторашкой и прочими чадами поселились у мужика в лаптишках, Чечотки Худого. Мирошка встал у Ивашки, того, который был в рваной овчине.
«Жаль, что не вместе с нами пошёл Мирошка. Не смог принять его Полусветье в свою переполненную избу, - вздохнула Любава. - Однако он близко, рядом…»
«Теперь уж навек он рядом!» - решила она в то утро, выскочив из избы за водой и взглянув на ядрёный, солнечный мир счастливыми, ласковыми глазами.
Мир вокруг голубел, сиял, искрился, жил, хрустел - славный, радостный мир зимы! И Любава, весело задевая днищем осинового ведра пушистый, чистый снежок, упавший на взгорье, сошла по тропе к реке.
Там, на светлом, но уже крепком льду, гремя копытами и пуская пар из широких, жарких ноздрей, топтались у проруби кони. Возле коней, поя их, шумели трудолюбивые люди княжеских военачальников.
- А-а, здравствуй, Любава! - сказал один из этих людей, сверкая зубами на розовом, безбородом лице. - Рано ты нынче встала.
- А ты и того пораньше! - ответила девушка, сторонясь коней. - Налей мне, Кирька, водицы…
Отрок Данилы-книжника, юный, весёлый Кирька охотно сунул осиновую долбянку в тёмную, неширокую прорубь.
От проруби тонко струился пар. Попадая в луч солнца, бьющий из-за спины коней пар начинал гореть и струиться множеством ярких, прозрачных красок. Он был многоцветным, как кисея, и вместе с тем призрачным, невесомым. Дружина глядела на этот пар с такой же счастливой улыбкой, как летом - на радугу в небе.
Любаве вспомнился приговор:
Гори-гори, радуга,
Да вёдро надолго!
А вспомнив об этом, она подумала, что зима, видно, будет здоровой: крепкой, морозной. Снежок да мороз вначале - уж больно всегда к душе…
Тем временем Кирька поставил ведро на лёд.
В чистой, белой осине вода колебалась ровно, была прозрачной, будто единая капля. Морозец сразу же прихватил её на краях, и края ведра округлились, сверкнули в луче спокойно и так же ясно, как и края первозимней проруби.
- Как нынче спала, Любава? - спросил, улыбаясь, Кирька.
- Добротно спала, легко.
- А мы нынче ох замёрзли!
Юноша закряхтел и поёжился, изображая степень ночной прохлады. Но тут же весело засмеялся - румянощёкий, со сверкающими, белыми, как первая пороша, зубами.
- Бедный Мирошка совсем застыл! - добавил он как бы между прочим.
И девушка сразу притихла. Отвернувшись от Кирьки, чтобы он не заметил невольной озабоченности на её лице, она как можно спокойней спросила:
- Опять всю ночь с тобой у костра сидел?
- Опять.
- В поход идти его соблазняешь? Кирька беспечно взмахнул рукой:
- Не я соблазняю: он сам идёт. В избе, чай, душно да тесно. На воле - слаще…
Потом добавил:
- А что ты соблазном похода меня коришь? Раз хочет Мирошка идти в поход, пускай идёт! Ты думаешь, здесь-то лучше?.. Ну-ну, не балуй! - вскричал он сердито, дёрнув коня за повод. - Ещё в канавину угодишь! - и оттеснил коней от воды.
Мир для Любавы сразу же потускнел, как будто и не было в небе солнца, и снег под солнцем не искрился, не сверкал.
- Так, значит, верно: Мирошка идёт в поход? - тоскливо спросила она Кирюшку. - Куда же ему в поход? Уж не туда ли, куда князь Юрий нашего Никишку раньше услал?