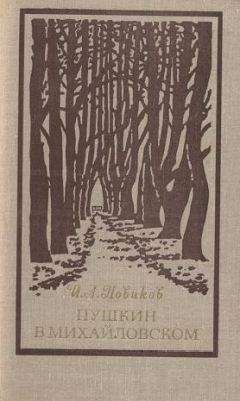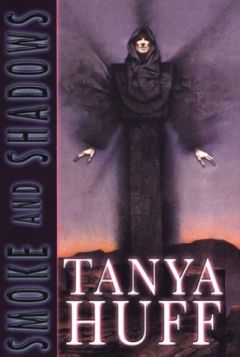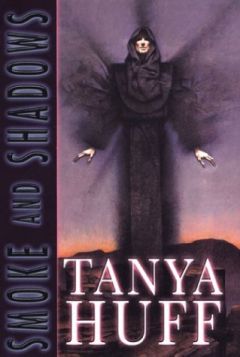Пушкин глядел на нечаянного собеседника с интересом, но в ответ ничего не сказал. Старик подождал и, видя, что барин не отвечает, так же неспешно ссыпал табак обратно в кисет и начал заматывать шнур.
— Что ж ты не закуриваешь?
— Трубку забыл. А по-солдатски, крученую, — грамотки нету. — И будто бы с вызовом, так неожиданно, почти прокричал: — И, говорят, Санкт-Петербург, с божьею помощью, начисто смыло, одно только место осталось… Вот — как ладонь. — И, сдунув с корявой руки пыль от махорки, хлопал себя по штанам.
— Я ничего не слыхал… А нету бумаги — на вот, возьми! — И Пушкин достал письмо к Адеркасу, которое так и пребывало в кармане с той самой поры, как взял от Прасковьи Александровны.
Впрочем, па всякий случай он оторвал всего лишь один косой лоскут поперек, чтобы ничего не понять. Ему доставило странное удовольствие истребление этой бумаги: ежели на раскурку годились стихи его, отчего не подымить Адеркасом и Соловками?
Теперь все было в порядке, как синий дымок завился между белых усов. Но того разговора так Пушкин и не поддержал и лишь, обернувшись на повороте, увидел: старик все продолжал глядеть ему вслед. Остаток листа был разорван в клочки и пущен по ветру.
Недалеко от Тригорского Пушкину повстречался верховой. Он передал записку от Осиповой. Прасковья Александровна кратко его извещала, что получены с почтою письма от Льва Сергеевича и от Жуковского, и просила заехать поговорить.
И она отстояла обедню в Ворониче. В руках ее был чистый платочек, и она из него доставала свежую просвиру, вынутую за упокой раба божия Иоанна, как раз когда Пушкин ступил на порог.
— Как вы скоро, однако! Как я рада вас видеть!..
— У всякого, видно, кисет на свой образец, — сказал Пушкин, смеясь и поглядывая на ее узелок с просвиркой. — Я вам привез три предсказания: у нас будет голод, и у нас будет бунт, и в Петербурге потоп.
— Откуда вы знаете?
— От старика. Я по дороге говорил с колдуном.
— Да, в Петербурге потоп, наводнение! Только что в монастыре говорили.
— Ну, тогда и остального не избежать.
Пушкин был весел, письма приятны. И хоть пирог был с черникой, по случаю поста, но тесто зато прямо дышало.
— Только и хорошо в этом посту что название: знаешь, что скоро и рождество. Левка приедет и Вульф; Дельвига жду.
— Да, сегодня уж в церкви в первый раз пели: «Христос рождается, славите…»
За праздничным чаем сидел и заехавший Рокотов. Он также был весел. Роковая одесская коляска, мешавшая ему посещать Пушкиных, наконец отбыла в Петербург. Он убедился в том самолично, когда по дороге на Остров и Псков, где Сергей Львович решил сделать визит губернатору (съездить надо бы сыну, да он не поехал), старшие Пушкины не миновали Стехнова, славной резиденции Ивана Матвеевича: Надежда Осиповна свято верила, что крепкий чай незаменим от мигрени. Об этом теперь он и рассказывал.
— И вашу красавицу матушку в ручку и в плечико… Уж вы извините, но перед женским полом восторга сдержать не могу!
Глазки его блестели, как свежепокрытые коричневым лаком, когда он озирал, по его же определению, «роскошный цветник дурмана и неги». Евпраксия совсем откровенно при этом давилась в салфетку, и даже ее строгая мать, прикрывшись рукою, остерегалась сделать ей замечание, боясь сама рассмеяться. Но Иван Матвеевич не обижался ничуть, даже напротив, он это любил: быть в центре внимания.
— И говорит ваша красавица матушка: «Дайте мне, говорит, крепкого чаю». А чай у меня первый сорт, но только цветочный! А сами изволите знать: чай этот зеленоватый и жиденький. И что ж, недовольна осталась драгоценная матушка ваша, встала и опрокинула все в полоскательницу… И Сергей Львович тут, как заразился, мне начал вычитывать, отчего не купил я коляску. А я говорю: «А на чем бы вы нынче поехали?» Хе-хе-хе-с! На прощанье, однако ж, облобызались: душевно люблю тонких людей! — И вслед за тем непосредственно, от глубины сердца, рассказчик вздохнул: — Вот и живи на проезжей дороге: все заезжают!
«Ах, болван!» — подумала Осипова и взглянула на Пушкина.
Пушкин не дал себе труда сдерживаться и громко расхохотался.
Жуковский писал и Александру Сергеевичу и Прасковье Александровне: оба письма были в одном конверте — на ее имя. Он писал о своем «замешательстве», не зная, что делать, кого просить и о чем, и что, слава богу, все само собою устроилось, а то он мог бы, пожалуй, лишь повредить. Даже самые выражения в письмах были почти одинаковы. Пушкин живо представил себе: утро, Жуковского, халат и камин, благодушие, лень…
— Чертовски небесная душа у этого полутурка! — воскликнул он и шутливо, и с подлинным чувством, а Прасковья Александровна тотчас же припомнила: «Чертик, будь ангелом!»
Пушкин теперь окончательно ее успокоил, сделав признание, что уничтожил письмо к Адеркасу, и оба они условились завтра писать в Петербург, благо будет оказия и можно послать не по почте.
На прощанье Осипова напомнила, что послезавтра сороковой день кончины тетушки Анны Львовны. Пушкин и тут ответил, смеясь:
— Ну что ж, хорошо, я велю отпеть панихиду или молебен, смотря по тому, что дешевле.
Дома ему няня сказала, однако, что Ольга Сергеевна и ей, уезжая, наказывала, чтобы отслужить непременно заупокойную, если известие о смерти придет без нее…
— Вот и отлично, и поезжай! — А сам пошел спать: была уже ночь.
Пушкин всегда брату писал бодрые письма, но в этот раз он особенно развеселился: с отъездом родителей больше ничто не давило его. Уже запечатав письмо, где болтал обо всем, а больше всего о петербургском «потопе», он вспомнил о бочках с вином и, распечатав, приписал и о них, чтобы купил «подешевле и получше. Этот потоп — оказия». Письмо было адресовано Льву Сергеевичу «в собственные лапки»; теперь он прибавил еще у печати, где было надорвано: «Я расковырял!» А няне, которая была озабочена поминанием тетушки Анны Львовны, он распорядился еще и про монаха Иону:
Да скажи-ка игумену, как будет служить нашу заупокойную: я вчера был у Осиповой и узнал о потопе; так вот пишу Льву, чтобы он наловил в Петербурге вина: бочки по улицам плавают! Как получу, приходил чтоб отведать.
И вообще Пушкина очень развлек этот потоп:
Напрасно ахнула Европа,—
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты,
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.
Так он аттестовал, шутливо-размашисто, петербургскую писательскую братию. Но позже, однако же, серьезно он размышлял и о другом. «Закрытие театра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток». И дальше брату писал о розданном правительством миллионе: «Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? Об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь нещастному, помогай из Онегинских денег. Но, прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного». (В «Инвалиде» печатали фамилии жертвователей.)
И все же веселость Пушкина не убывала, и если разбуженные воспоминания Петербурга, связанные с пиром у Олениных, где юная генеральша Керн изображала Клеопатру, возле которой теснились поклонники, дали ему толчок к раздумью и описанию пира у страстной египетской царицы и у него возник большой стихотворный набросок из причудливо роковой ее жизни, — то теперь, отвечая Родзянке, а через него и самой Анне Петровне, на присылаемые ими приветы, он только шутил, поминая его имение около Лубен и почти повесничая: «Объясни мне, милый, что такое А. П. К…, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь, — но славны Лубны за горами. На всякой случай, зная твою влюбленность и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным».
И вспоминал Родзянкину «Чупку»: «Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся — про Чухонку), и эта чухонка, говорят, чудо как мила. — А я про Цыганку; каков? подавай же нам скорей свою Чупку — ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Италианку? чем их хуже Чухонка или Цыганка…» Дальше следовала, под веселую руку, и вовсе уже непристойность… странное дело: у Пушкина не казавшаяся таковою… Это было летуче и весело и не носило в себе никакой подспудной и нездоровой эротики.
Он, между прочим, вспомнил и брата Порфирия и послал ему поклон.