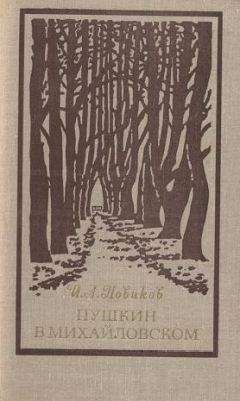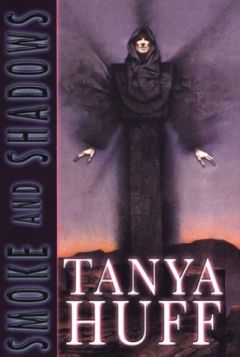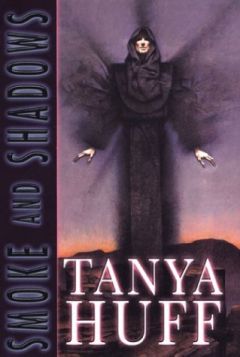Он, между прочим, вспомнил и брата Порфирия и послал ему поклон.
Перечитывая снова теперь свою «Клеопатру», Пушкин опять уносился мыслью в былое: недаром и здесь, как и в «Руслане», красавицу снова оспаривали трое… Такова была сила полудетских eго воспоминаний, как три друга-лицеиста влюблены были в одну — всё в ту же Бакунину, которая мимолетно слилась тогда с образом Керн и о которой недавно как раз писал в записках своих, вспоминая это далекое время…
Эти записки теперь продвинуты были значительно дальше. О жизни, «которую он так любил и которой никогда не наслаждался», он собирался припомнить, как обещал это Льву, не раньше, чем выпадет снег, но зима все еще не становилась, и он вспоминал давний юг непролазною затянувшейся осенью, благо пришло наконец муравьевское «Путешествие по Тавриде». Этот кусочек воспоминаний он, впрочем, писал не на отдельных листках, а в общей масонской тетради и отослал его как письмо к Дельвигу. Воспоминания эти могли быть и статьей; Дельвиг как раз просил его о цензурной прозе.
«Путешествие по Тавриде» оживило в Пушкине много воспоминаний о собственном путешествии по тем милым краям, и легкая грусть все время веяла над этим его письмом. Семейства Раевских он вовсе теперь не поминал. Чаадаев, выйдя в отставку, жил далеко, и мечта попутешествовать с ним вместе так и осталась мечтой. Пушкин хотел бы иметь хотя бы черты его перед собою, но Михайла Калашников, вернувшийся наконец из Петербурга, привез ему поправленный перстень, но не привез портрета Чаадаева. И никак ему даже весть о себе не подать…
Пушкин мысленно сравнивал свои воспоминания с впечатлениями Муравьева. Они были весьма различны. Автор «Путешествия по Тавриде» отводил много места всяческим своим изысканиям, Пушкин же на развалинах храма Дианы сочетал мифологические предания об истинной дружбе с собственными чувствами к далекому другу…
А что, если Дельвигу и вправду удастся напечатать эти странички его воспоминаний, а он поместит там и стихи к Чаадаеву и тем подаст ему весть? Ведь следит же Петр Яковлевич и на чужбине за отечественною литературой? И Пушкин стал припоминать те самые свои стихотворные думы, которые посетили его на развалинах древнего храма. Это не сразу ему удалось. Если бы еще они были раньше записаны! Тогда помнится четче и тверже. Но там ведь они лишь колыхались в душе, как туман, еще не осевший каплями видимой росы. Он тогда именно думал стихами, и отыскать их, поймать было даже труднее, чем находить точную форму, того, что волнует в самый момент создания новой пьесы. Порою перо уводило несколько в сторону, и он должен был его останавливать.
Сквозь запотелые окна видны были деревья, ветер раскачивал их голые сучья. Где солнце и юность?
С настоящею нежностью в этом отрывке о юге Пушкин вздохнул только о кипарисе, росшем у дома в Юрзуфе: «Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти». Обо всем остальном (о многом и многом…) Пушкин умалчивал и только спрашивал друга: «Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»
Осень в тот год затянулась как никогда. Сороть, усталая, полная, катила свои посеревшие воды. Следя каждый день неспешное это движение, как-то раз, еще до отъезда родителей, он, по контрасту, набросал испанскую песенку для тригорских девиц. Все они были в восторге и единодушно решили, что Верстовский, так хорошо положивший на музыку «Черную шаль», должен непременно написать и этот романс. Алина сама подобрала легкий мотив, а Евпраксия, вспоминая воображаемые венецианские похождения Льва, хлопала в ладоши и восклицала:
— Вот счастливчики-то! И в Италии были, и в Испании были!
— Да, в Испании еще лучше: жарче раза в четыре! Только я Левушку в Испанию с собою не брал: молод еще!
— А меня бы вы взяли? А я чересчур молода? — дерзила Зизи, и в глазах у нее загорелись зеленые огоньки.
Пушкин ждал снега, не принимаясь за «Годунова»: все еще завершалась тайная непроизвольная работа внутри.
В Тригорском топили камин, и экран с вышитым гладью гербом дышал стариной. Мать за работой, из детской доносятся негромкие возгласы девочек. Валериан на дворе, и оттого в доме кажется тихо. Случалось, что Анна читала старинный какой-нибудь роман вслух. Ей удавались особенно объяснения в любви — длительные, исполненные чувства и постепенного нарастания. Пушкин угадывал ее интонации, порой ее голос звенел, выдавая и собственное затаенное волнение сердца. Алина сидела за пяльцами, строгая, легкая; линия шеи, склоненной за тонкой работой, была грациозно чиста; кудри, спускаясь с висков, кидали на щеки беглые тени.
Он продолжал питать к этой девушке особое чувство. Когда ее не было в комнате, ему заметно ее недоставало и самый тон его разговора для других опадал. Он издали слышал ее движения в соседней комнате, шелест платья, и звуки эти доставляли ему тайную отраду. Но когда наконец она появлялась в дверях и, окинув ясными, спокойными глазами сидевших, направлялась, по обычаю, к своим пяльцам, его охватывало одно лишь томление невысказанных чувств.
Пушкин любил повозиться с Евпраксией, «померяться талиями»; вольно и дерзко пошутить с бедною Анной, чувства которой тем менее в нем вызывали хоть какой-нибудь отклик, чем более явно они выражались с ее стороны (шутки эти бывали порою грубоваты, ибо его забавляло смущение девушки); он позволял себе задержать полную ручку и самой Прасковьи Александровны; но Алина была отделена как бы прозрачным и чистым стеклом. Все было видно, все было ясно, все музыкально, но неизменно спокойное, ровное ее обращение было как грань, через которую не переступить.
Чувство Пушкина к ней не было страстным, но все же он и досадовал: на нее, на себя — горячо. Чего б он хотел? Его охватило б, пожалуй, некоторое даже разочарование, ежели бы Алина склонилась к нему, — и, однако же, ему было ревниво-печально сознавать, что это совсем невозможно, в то время как… да, он отчасти ее ревновал к отсутствующему Вульфу: к отсутствующему порою даже острее, чем когда тот был здесь. Он представлял себе со всею живостью, как иногда она уходила гулять, невзирая на погоду, а этот молодец где-нибудь ее поджидал в условленном месте, и как она, возвратившись, садилась не к пяльцам уже, а за фортепьяно, перекладывая на музыкальные звуки разговор своих чувств.
Чего же сам Пушкин хотел от нее?
Не смею требовать любви,—
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно…
Я сам обманываться рад!
И ей же писал, подражая Андре Шенье:
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися…
И далее образом античного юноши, о котором грустят, намекал ей на отсутствующего Вульфа.
Пушкин писал ей стихи. Алина в ответ краснела, молчала, пряча их в книгу, развернутую на коленях; короткое это внимание трогало и волновало его. И все же продолжения никакого не возникало. Да и сам Пушкин, едва возвращался в Михайловское, легко забывал об Алине. Образ ее как бы истаивал еще в дороге, и во все права вступали другие две женщины: близкая Оленька, дыханьем которой исполнен был дом, и далекая мучительная Элиз Воронцова, писавшая скупо и изредка, но умевшая ранить остро и глубоко.
Конец декабря. Снегу все нет. Дом погружен в безмолвие ночи. Топится печь. Скоро и святки. Вульф завтра уже приезжает. Но хотелось бы брата и Дельвига. Ужель не приедут?
Пушкин сидел безмолвно, задумчиво: как если бы убраны комнаты к празднику и не знаешь, что делать; или — на столе ни единой бумажки, и закрыта чернильница, перо не очинено. Он не боялся подобного своего состояния и его не бежал. Вечером он много ходил, была великая грязь, а калош ему брат так и не прислал. Голые ветки глядели в окно. Перед ним возникали пространства: дороги в грязи, станционные домики, Россия, деревня, чужие края. Он даже не знает адреса Чаадаева: брат до сих пор не узнал… Брат вообще ненадежен. Не привлечь ли в свой заговор Вульфа? Может быть, можно удрать через Дерпт?
Но взгляд его падает на талисман, и мысли меняются. «Стих: Вся жизнь одна ли, две ли ночи надо бы выкинуть, да жаль — хорош», — недавно писал он Льву в Петербург и, чтобы не было кривотолков, отдавал распоряжение брату поставить под «Разговором книгопродавца с поэтом» дату: 1823 год — тогда уж никто не приурочит эту строку к Елизавете Ксаверьевне…