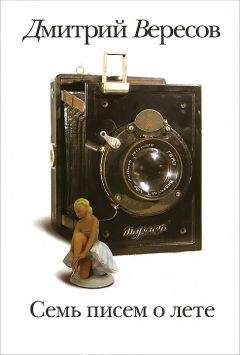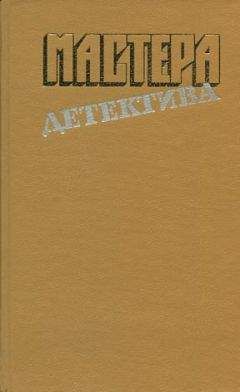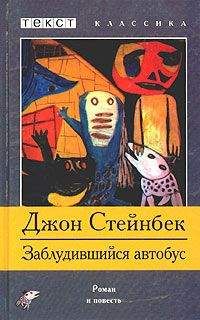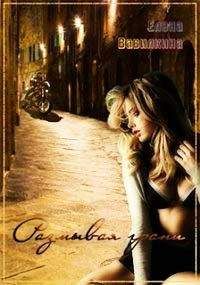Послезавтра у мамы день рождения, и я приготовила ей подарок. Она любит необычные вещи, сюрпризы, всякие забавные, пусть и недорогие, штучки, а идею подарка подсказал мне ты в одном своем письме. Спасибо тебе за это.
После маминого дня рождения – „Алые паруса“, проводы белых ночей. Праздник мне неинтересен – на набережных бессмысленные толпы, компании, пары и потерянные одиночки вроде меня. Но вдруг мы встретимся с тобой? Не может быть, чтобы ты не вышел на улицу в такую ночь. Мы встретимся, и я, наконец, произнесу слово „здравствуй“, которое давно уже рвется наружу.
Я заканчиваю писать, Мишка. Моему письму не нужен адрес. Оно улетит в наше с тобой инобытие…»
– Аська! – сдавленно, чтобы потише, воскликнула заспанная Наташа, приоткрыв дверь в комнату дочери. – Аська, опять ночные бдения?! Ты же обещала, что будешь по ночам спать, а не за компьютером сидеть! Опять днем будешь углы считать, как сомнамбула! Молодому растущему организму необходим здоровый сон, который раз говорю. Сейчас же ложись спать!
– Мам! – обернулась Ася и широко открыла глаза, чтобы ее не заподозрили в сонливости. – Ты, типа, доктор Грелкин в ти-ви? Может, мне еще как бы зарядку забацать с утра пораньше прикажешь? И ваще, где ночь?! Короче – будет ночь, тогда и впаду в спячку. А щас – светло!
…Ася, Ася.
Ох, уж эта Ася!
Светится экран компьютера, а на столе перед Асей под глянцевой рекламой косметической фирмы – странички старого письма поверх грубого, с подпалиной по краю, конверта с фотографиями.
Новый день настал.
Новый день настал – солнечный и теплый. А город-то уже почти забыл, что бывает тепло и солнечно, и тихо ликовал в надежде, что зонты, плащи и куртки будут забыты до времени и на смену им явятся легкие и пестрые одежды.
Ася так и нарядилась – легко и пестро, даже слишком пестро – как попугайчик. И убежала из дому, не позавтракав, – во-первых, из романтических побуждений, во-вторых, чтобы мама не успела дать поручений (пропылесось, вынеси мусор, купи хлеба и коробку «геркулеса»).
Мороженщики, почувствовав лето, с утра были на посту, чуть не на каждом углу стояла тележка с маленькой веселой зимой под прозрачным окном, и Ася покупала мороженое – одно, второе, третье, и все разные.
Четвертым угостил ее молодой человек по имени Михаил.
Молодой человек был Асиного возраста, белокур, высок и широкоплеч. Худышка Ася могла бы бабочкой опуститься к нему на плечо, но летать… не очень-то умела. Собственно, она «полетела», но на асфальт, потому что спасала уплывающие остатки своей «сахарной трубочки», стоя прямо под дверью фотосалона, а красавец-блондин, не соразмерив силы и не подозревая об Асином присутствии, распахнул дверь и сбил Асю с ног.
Ася ободрала коленку, и, если бы не фотокамера, висевшая на шее красавца, она бы со своим богатым словарным запасом много чего ему наговорила бы нелестного, а так ограничилась обыкновенным:
– Придурок…
И замолкла, потому что заметила фотокамеру. Для нее – нечто вроде пароля, опознавательного знака.
– Да ладно, – сказал блондин и помог ей подняться. – Я же не видел. Не наезжай.
– Снимаешь? – кивнула Ася на фотокамеру, хотя не в ее обычае было вступать в разговоры с незнакомыми молодыми людьми, если эти разговоры не были вынужденной перепалкой.
– Хочешь фотку? Ты фотогеничная. По-моему.
И уставился. Глаза были маловаты на Асин вкус, но не все же случается точно по заказу. Она, собственно, даже и не желала, чтобы предмет ее мечтаний был близок к голливудскому идеалу, скорее – наоборот. А комплименты ее настораживали. Потому что душою была тонка.
Поэтому она ответила:
– Чушь.
– Я бы поспорил. А мороженого? Ты же свое не доела. Меня Михаил зовут, кстати.
– Кстати, – подтвердила Ася. И подумала – прямо дамский роман. И романная будничность знакомства покоробила ее. – Кстати. Вот так-таки и Михаил?
– А что? Имя не нравится? Можно и Микки. Кстати. Мне так привычнее.
– А я-то думала: на кого похож? – с легкой язвительностью в интонации произнесла Ася.
– О, тоже старые фильмы любишь? Уважа-аю, – протянул Микки. – Да, говорят, похож. А тебя как зовут?
– Угадай.
Это было важно для Аси – чтобы он угадал.
– Ладно, только с трех попыток. Натали? Ксюха? Э-э-э? Лизон или Анастасия? Угадал?
– С четвертой попытки.
Ася была в смятении. И согласилась съесть мороженое, которое тоже было четвертым. Как и попытка угадывания имени.
«…Все мы в Ленинграде живем теперь по-особому. „Угрожаемое положение“ – так называется наш режим с первого дня войны. Не помню, писал ли я тебе, Настя, что уже 23 июня было объявлено „угрожаемое положение“. Это означает посты, патрули, задержания для выяснения личности, проверку документов на каждом углу. Поэтому фотоаппарат я прячу – ношу в сумке, которую по моей просьбе сшила мама. У меня есть корреспондентские документы, и предписание, и разрешение на фотосъемку. Но если фотоаппарат на виду, меня останавливает каждый патрульный или даже доброволец из пожарного звена. Или обязательно увяжется бдительная мелюзга, играющая в шпионов. Только какие теперь игры? Мелюзга словно бы повзрослела в один день. Всё всерьез. Все учатся войне.
Правда, учатся. Учатся надевать противогазы, бинтовать, делать лубки из подручных средств и даже правильно ухватывать и нести носилки. Учатся пожарному делу, учатся тушить зажигательные снаряды. Для тренировки используют пиротехнику. Я видел и даже снимал по заданию нашей редакции такие учения на Каменном острове: инструктор поджигал патрон с фейерверком или с чем-нибудь дымным, а женщины по очереди тушили, забивали брезентом, засыпали песком, затаптывали, отбрасывали ногой в безопасное место или даже смело выдергивали фитиль. А потом рвали лопухи, слюнили и оборачивали лопухом свежие ожоги, говорили – помогает. Фоторепортаж у меня, правда, не очень получился – дымный, темный. Редактор эти фотографии в газету все же поместил, но кряхтел – „слепые снимки“.
Для меня война, Настя, это, прежде всего, темень, слепота. Почему? Я сам себе пытаюсь это объяснить. Ведь лето, светло, жарко. Так жарко, что кажется, и ночью можно загорать не хуже, чем днем, если бы кто-то сейчас думал о загаре, – такое солнце раскаленное, разъяренное, слепящее. Но с первого дня войны введен светомаскировочный режим и в домах, и в учреждениях, и на улицах, и на транспорте. Я иногда думаю, что, если бы кто-то мог, наверное, и солнце бы погасил или чехол на него набросил ради светомаскировки.
В финскую войну тоже было тревожно и темно. Помнишь? Электричество отключали. В парадных горели синие лампочки – мрачное и таинственное освещение. Когда мы входили в нашу парадную, ты говорила: страшный сон, заколдованный замок, как будто гаснут глаза убитого дракона. Но финская война была глухой, шепотной, больше слухи ходили. Мы ведь мало что о ней знали, только папа и дядя Макс были по-особому, по-злому, встревожены и почти ничего не рассказывали. Да еще Макс однажды приехал обмороженный из командировки из-под Выборга, и твоя мама принесла спирту для растирания, а Макс потихоньку выпил половину. Твоя мама тогда говорила, что раненых везут и везут.
Но сейчас город словно ослеп и слепнет все больше, потому что окна в домах велят заклеивать накрест полосками бумаги, витрины магазинов теперь закрывают огромными, во всю высоту и ширину, деревянными щитами и закладывают мешками с песком. Представь себе витрины „Елисеевского“ в три этажа! Да что там представь! Посмотри на фотографии, которые мне удалось сделать. Город наш любимый дурнеет на глазах. Всю красоту прячут, перекрашивают в серый цвет.
Группы Клодта, коней наших, с Аничкова моста сняли и закопали во дворе Дворца пионеров. Я видел, как их закапывают, и заснял. Ты увидишь снимок. Прости меня, Настя, за эту фотографию, но я не мог иначе. Я ведь репортер, а репортер – это, прежде всего, свидетель. Тут не до нервов. Коней закапывали, и какой-то прохожий сказал: хоронят, родимых. А второй ударил его кулаком по спине. Первый понурился, но даже не взглянул, и разошлись молча.
Слепота – это и незрячие глазницы противогазов, неузнаваемость человеческих существ под этой отвратительной душной серой резиной. Слепота – это и безглазые бледные рыбины аэростатов, они будто всплывают в небо, мертвые, и все кажется, кверху брюхом. Слепота – это и папино ухудшившееся зрение, толстые желтоватые линзы его очков.
Это и наша всеобщая слепота, когда мы отказываемся видеть очевидное, а если видим, то не верим своим глазам, отказываемся верить тому нечеловеческому, что приближается день ото дня…»
Павел Никанорович в ночь-полночь колотил по клавишам немецкой портативной пишущей машинки. Считалось, что пишет он передовицу в свою газету. Дело не просто ответственное, а ювелирной ответственности – все равно, что прокладывать тропу по минному полю: чуть в сторону, и загремишь далеко-далёко.