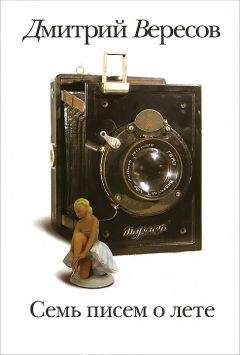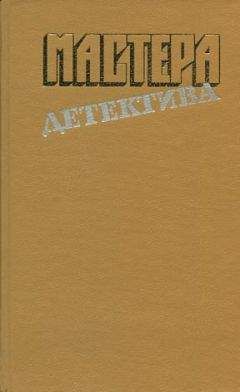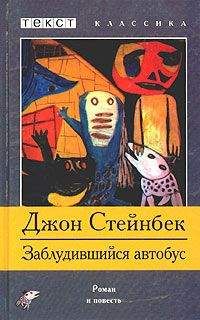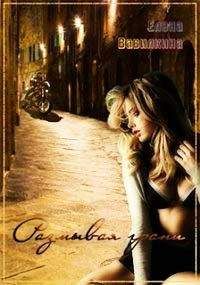Об отдыхе, о четырех полагающихся отпускных днях никто не заикался и даже не вспоминал.
Но какой, в самом деле, отдых, если оборона, если в сторону Пскова беспрерывным потоком идут поезда, длиннейшие серые эшелоны – откуда их столько взялось! – и везут мобилизованных, пушки под чехлами, даже лошадей, чтобы, как выяснилось, возить эти пушки, и спрессованные фуражные кипы, чтобы кормить лошадей? Если в обратную сторону везут раненых, наспех искромсанных торопливой фронтовой хирургией, перевязанных, загипсованных, с черными лицами и разучившихся по-человечески говорить и только рычащих, сипящих и воющих по-звериному, когда их выгружают из поезда и тесно укладывают на телеги? Какой отдых, если все ближе с каждым часом, все слышней и слышней громовые раскаты и надвигается огненный ливень – смерть надвигается? Никому не придет в голову отдыхать – целых четыре дня. И ни к чему это, потому как за эти четыре дня о чем только не передумаешь, и все больше – о чем не следует, например, об оставшихся на чужом неласковом попечении детях, о муже, от которого ни слуху ни духу, и о том неопределенном, неохватном пониманием мирного человека, выражаемом словами: что же будет?!
Что же будет? Небо вспыхнет и падет на землю. Земля вздыбится. Комья земли перемешаются с ошметками неба и человечины.
Землеройные работы были окончены, укрепления сооружены, приняты военно-инженерной комиссией, и всем велели отправляться по домам. Своим ходом, разумеется. Кто как мог, кому как повезло, так и добирался.
До Ленинграда добраться было несложно – на поезде, на автобусе. Три-четыре часа, и даже меньше, и дома. А у Тамары и Лидочки сутки ушли на то, чтобы сначала найти попутную телегу до прибрежного Наволока, а потом пешком вдоль берега, торопливо, насколько хватало сил, дошагать до бабы-Капиного гнезда. Детей не было, Капа заквашивала молоко, укутывала крынки старым тряпьем для тепла. В доме пахло старым деревом, холодной печкой и свежесорванным укропом. На юге громыхало – уже привычно, но все ближе и ближе.
– А… – сказала Капа. – А… дивчаты… Я уж не чаяла – думала, навек мне ваши подкидыши. Наслал Господь наказанье, коли своих не завела. Явились мамки, слава те господи… А в Югостицах, говорят, немцы на танках разъезжают. Соседская кума прибежала – на хвосте принесла. Может, и врет!
– Где дети? – спросила Тамара, а у Лидочки уж и ноги подкосились в предчувствии дурного.
– Что им сдеицца? Я их к хозяйству приставила, чтоб не дурили. Курей там покормить, воды наносить, двор подмести, капусту прополоть. Уж таки неумехи! Уж таки слабеньки! И козы бояцца! А нынче услала за земляникой – последняя, крупная, сладкая по опушкам дозрела. Наберут по лукошку, и то ладно. Да только не наберут – все в рот себе…
Тамара, не присев, побежала к опушке, Лидочка за ней следом. Женщины метались вдоль леса, звали детей до хрипоты, потом разошлись по дорожкам, ведущим через лес, и, срывая голос, звали и звали. И вдруг, на перекрестье тропинок, одновременно сошлись все четверо: перемазанные ягодой и сосновой смолой Володька и Люсенька и обе матери, в поисках детей чуть не сошедшие с ума.
– Мама! – заорал Володька. – Мама! Какая ты страшная! У меня голова в лесу всегда болит! И пить хочется. А мы белок видели и дятла!
– А еще немцев, – тихо добавила Люсенька и приникла к Лидочке. Обе уже рыдали.
– Володенька… – целовала сына Тамара. И встрепенулась: – Каких немцев, девочка?
– Военных немцев. Ничего, теть Тамара, они нас не заметили. Мы в папоротники легли, они и прошли мимо. Тихо-тихо.
Вероятно, это было подразделение разведчиков, пробиравшееся от Югостиц, где была центральная колхозная усадьба, на север. На следующий день показались немецкие танки.
– Куды ж?.. – растерянно сказала баба Капа и села на табуретку у окошка – ждать судьбы.
Лидочка, видимо, тоже готова была ждать судьбы, тем более что немцы шли уже по главной улице села и разбредались по боковым. И страшны были почему-то не танки, не автоматы в руках солдат, более всего пугала чужая каркающая речь, звучащая спокойно и деловито.
– Нет уж! – сказала Тамара и посмотрела на Лидочку. – Ты, Лидочка, как хочешь, а мы…
Тамара повесила на плечо свою городскую сумочку с деньгами и документами, завязала в салфетку полхлеба и два огурца, велела Володьке надеть ботинки, чистую бобочку и панамку, взяла его за руку и объявила:
– Мы идем домой, к папе и Мише. Ты соскучился, Володенька?
– Я подарю папе моего жука, – обрадовался Володька, боявшийся и невзлюбивший бабу Капу, и сунул в карман коробочку из-под зубного порошка, в которой хранился пришпиленный булавкой к куску сосновой коры жук-олень, редкий зверь для здешних мест.
– Пошли, – велела Тамара и взяла Володьку за руку.
«…С папой они встретились на вокзале в Луге. Вернее, не на вокзале, а на автобусной остановке рядом с вокзалом. Чудом не разминулись! Папа будто чувствовал – с утра подхватил портфель и шляпу, побежал на вокзал и успел к пригородному поезду. Мест не было, потому что на поезде ехали ополченцы, как говорили, на учебу. Но папу взяли в вагон, потому что там был один его знакомый по издательским делам, который пошел в ополчение. Он-то его и узнал и позвал в вагон. Потом в Луге папу чуть было не приняли за дезертира. Ведь ополченцы – люди мирные, штатские и не очень понимают военную дисциплину. Они, бывает, возвращаются навестить родных самовольным образом, а это рассматривается как дезертирство. Ну вот, в Луге папу чуть не арестовал патруль истребительного отряда. Это такое подразделение из местных жителей, которое должно ловить шпионов, дезертиров, диверсантов и пораженцев. Чем-то папа не понравился, и его задержали, несмотря на то что документы у него были в полном порядке.
Потом еще кого-то привели, какую-то тетку, которая на рынке кричала, недовольная ценами: „Немца на вас нет, мироеды!“ И папу попросили посидеть в коридоре. Он посидел пять минут и просто ушел, и никто его не задерживал, даже постового при входе не было. Видно, отлучился.
На автобусной остановке была толпа, сидели на узлах и чемоданах. Никто не знал, когда придет автобус и куда он потом поедет. Там папа и узнал (в сводках еще не было), что фашисты прорвались к Югостицам, а это совсем рядом с деревней, где находились мама и Володька.
Но тут пришел автобус, откуда-то из совсем других краев, откуда и не ждали. Из него вывалилась толпа, а в толпе – мама и Володька. Папе, когда он их увидел, стало плохо с сердцем, но быстро отпустило. Мама черная и очень похудевшая, она, оказывается, была на окопах, а Володька тоже черный, загоревший, но ничего – упитанный, только сомлевший в автобусной духоте.
Очень жарко было, и сейчас жара, Настя. Страшная жара, и каждый день ледяной ливень новостей…»
* * *
Дед Владимир жил неподалеку от студийного чердака – на улице Глинки, что выходит к Мариинскому театру. Майк, насквозь промокший под ливнем, заглянул просушиться, погреться, угоститься дедовым чаем с его фирменным «бальзамом». «Бальзам» приготавливался дедом собственноручно из зверобоя, душицы и еще какого-то лекарственного сена, которое высушивалось, измельчалось, помещалось в темную бутыль, заливалось спиртом, настаивалось в темноте ровно три недели, потом процеживалось в несколько приемов.
Готовое снадобье разливалось по пузырькам, укупоривалось воском поверх пробки, украшалось цветной ленточкой. Потом по чайной ложке снадобье добавлялось в чай и считалось лекарством от всех болезней. С чего дед это взял, осталось неизвестным, потому что болячек, хоть он и бодрился, у него хватало и только прибавлялось с годами. Но чай с «бальзамом» был вкусным и ароматным.
– О! Приветствую, – сказал дед. – Тебя хоть выжимай, родной. Да и следует. Ступай в ванную, там чистый халат. Переоденешься, будем чай пить с моим «бальзамом». Нынче не то чтоб удачен, положа руку на сердце. Душицы, похоже, переложил, вышел одеколон-с. То ли трава по прошлому году сильно пахучей уродилась? А, что теперь гадать! Предвижу просьбу остаться переночевать. Ответ будет положительным, но матери звони сам.
Майк застал деда, когда тот, вдохновленный непогодой, решил разгрести свои завалы. Дело было интереснейшим, во всяком случае, для Майка, и он счел, что сегодня ему везет как никогда – сначала с фотографией девчонки, теперь вот с дедовым мероприятием.
– Богатейшая помойка! – сказал дед. – Но все больше трухи. Ничто не вечно, – повторил дед, выуживая из старого, обшарпанного фанерного чемоданчика с полустершейся надписью «Юный мастер» сложенный вчетверо лист «Инструкции». Из «Инструкции» он вытряс затрепанную книжицу. – Вот здесь примерно так и сказано, – помахал готовой рассыпаться книжицей дед. – «Книга Екклезиаста», ничто иное. Храню в столь странном месте, потому как не я туда положил. Пожалуй что и антикварная штучка теперь. Видал?