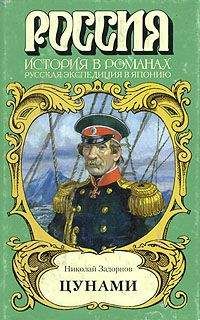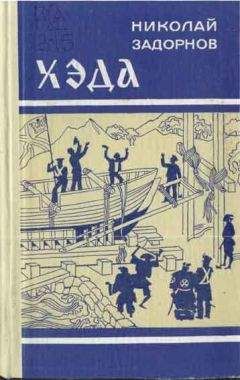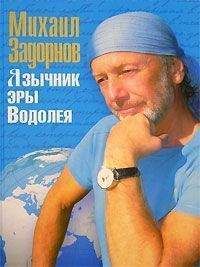– Доктора! Носилки!
– Санитаров с носилками! Да где же врач?
– Орудие не смогли удержать. Симонова придавило, и он не успел отскочить, – говорил барон.
– Нас бьет о дно там, где была глубина сорок футов. Вода ушла из бухты.
«Целая каша из людей! – подумал Можайский. – Один мертв… Симонов… Силач. Славный и тихий матрос Симонов. Голова раздавлена, сплющена, и весь он… И нет человека!»
Еще один бился с переломленными ногами. Из разорванной штанины торчала белая сломанная бескровная кость. Алексей Николаевич, выхватив нож, нагнулся и срезал штанину. Он все время видел осколок кости с хрящами, торчащими из переломанного колена. Матрос закатил глаза.
Какой-то отблеск красный мелькнул в портах, запахло серой, фрегат задрожал, лязгали канаты, судно куда-то пошло.
Раздался новый сильный удар. А дно тут камень. Опять затрещало внизу, где-то там, где киль.
«Киль? Пробоина в подводной части?» – мелькнуло в голове Сибирцева.
Понесли носилки с ранеными.
– Дрейфует! – раздался крик лотового наверху.
В широкий порт видно было тонкий конец, на котором при тихой погоде шлюпка билась о борт корабля, как в шторм. Наверху раздался условный свисток, означающий: «Прекратить все работы!»
– Боже мой! – вдруг закричал кто-то дурным голосом.
Все кинулись по трапам вверх.
Офицеры и матросы высыпали на палубу из всех люков.
Вокруг фрегата вода пенилась и клокотала белыми ключами, потоки ее били со дна, и вся поверхность бухты как бы закипала. Из воды, словно взрываясь, взлетали столбы пара и облака водяной пыли.
Можайский не поверил глазам. По городу Симода, там, где минуту назад плотной массой желтели по обе стороны устья реки высокие, аккуратно выстриженные травяные крыши и черные крыши из щепья, цвели в садах красные камелии и желтели апельсины, все сбивая и валя, подкидывая на воздух суда и лодки, шла в остекленевшем зеленом изломе огромная волна.
– Верните баркас! – послышался голос адмирала. Румянец проступил на его вытянутых смуглых щеках, лицо помолодело, словно Путятин ждал и рад, что наконец что-то началось. Из глаз исчезло выражение загадочной мрачности, которое всегда так нравилось японцам.
– Руби кабельтов! К борту! – почти одновременно с адмиралом крикнул Лесовский, держа рупор на баркас и шлюпку, которые только отошли от фрегата.
Зычный голос Степана Степановича как бы напоминал всем, что и сейчас тут надо страшиться его, а не стихии.
– Баркас вернулся! – доложил вахтенный офицер. – А шлюпку подхватило и понесло.
– Что делается, смотрите, город-то…
– Боже ты мой!
Матросы крестились.
Какая-то зловещая мгла неслась в глубь долины над крышами, словно поднялся и мчался без ветра туман. Водяная пыль засыпала город, повсюду поднялись столбы воды, словно ударили фонтаны, где-то около нового здания Управления Западных Приемов ввысь вырвался гребень водяной горы, весь в пене, волна шла, разливаясь по городу, вихрем неся по его крышам лодки и вытягивая деревья. Крутя вихри, срывала цветы и апельсины, засасывала их в воронки. Люди прыгали с суденышек на улицы. Полуголый мальчик залез на крышу и подымал туда маленьких детей, вода подняла их всех вместе с крышей и закрыла. Огромная волна срывала крыши, и целые дома взлетали, словно городки от ударов биты. У каменного дома с каменными стенами вокруг двора волна глухо рухнула под самый фундамент, и все здание легло, как куча камней. Волна шла ровно и устойчиво по всему городу, не теряя силы, и нахлынула на дальние косогоры, облизывая подножия холмов и валя ворота храмов. Только сами храмы на горах стояли в неприкосновенности. Но вот вал хлынул на косогоры с новой силой, крыша храма стала провисать, а во двор, словно из потревоженного муравейника, выбежало множество людей. В этом храме, как знал Алексей Николаевич со слов Можайского, жил ученый, академик Кога.
– Дрейфует! – снова крикнул лотовый.
– Отдать второй якорь! – приказал Путятин.
– У меня в батарее якорный канат расклепан! – спохватился Шиллинг и опрометью кинулся вниз.
Унтер-офицер выкликнул несколько матросов, и люди дробью посыпались по трапу заклепывать звенья каната.
Шлюпку относило все дальше, но люди там не сдавались, бились изо всех сил, как на горной реке против течения. Волны плясали, то подымая, то скрывая суденышко с гребцами.
Адмирал посмотрел на часы. С начала землетрясения, с первого толчка прошло три минуты.
Город превратился в сплошное разлившееся море пены с грязью, в пенную лужу со множеством плавающих крыш, на которых вдруг появлялись люди, вздымавшие руки и метавшиеся в ужасе. Вода пошла прочь от города, смывая множество копошившихся повсюду людей. Столбы едва торчат из воды, затоплены рисовые поля и сады, слышатся крики людей, они там еще барахтаются в воде. Вода хлынула обратно в бухту вместе с деревьями, досками и разбитыми лодками. Под бортом фрегата пронесло двух утопленников, намертво ухватившихся за обломки дома, и вырванные кусты в цвету.
На палубе крестились и бормотали молитвы, суетно сгрудясь и как бы превращаясь из команды героев в толпу суеверных крестьян.
Священник вышел и, взявшись одной рукой за поручни, другой поднял крест и нетвердым, но торжественным голосом стал читать отпущение грехов. Люди опускались на колени. Едва он закончил, как некоторые матросы стали сбрасывать рубашки.
Заклепали цепь и отдали второй якорь, но фрегат тащило прочь от берега. На носу корабля раздался такой треск, что весь экипаж во главе с адмиралом повернулся на палубе, как на парадной маршировке.
Большая рыбацкая джонка с разлета насела на канаты обоих якорей и на бушприт, сломила утлегарь,[83] снесла блиндагафели[84] и сама застряла. Крепкими канатами «Дианы», державшими якоря, ей срезало мачту и снасти, разворотило борт, он вспух, джонка оседала, доски ее лопались и стреляли. И сразу же в нее врезалась другая и рассыпалась. И обе превратились в груду обломков, которую тут же разнесло по воде.
Матросы с русленей и из портов бросали японцам концы, но рыбаки не трогали кинутые им веревки. Водовороты разносили их. Сизов и Шкаев взбежали на обломок бушприта.
Еще одна джонка, поменьше первых, ударила в форруслень и сразу рассыпалась. Молодой японец, лежа на спине, обхватил обломок раскинутыми руками, как распятый. Шкаев, стоя с веревкой, накрученной на руку, размахнулся и кинул ему конец. Веревка упала почти на грудь японцу, но он не пошевельнулся и не взял ее. Исподлобья, плывя на спине, холодно и тяжело смотрел он черным взором на матроса.
– Бери! – закричал Шкаев яростно.
Шкаев стал обвязываться. Но молодой рыбак показал рукой в сторону берега, а потом быстро провел себе по шее, как бы показав, что ему отрубят голову, если матрос его спасет. И прежде чем Шкаев прыгнул, крутая воронка втянула японца, раз-другой в мутной воде мелькнула бритая голова.
– Ребята, что же это… с сердца рвет…
– Спастись боятся…
И вдруг Сизов, обвязанный веревкой, кинулся в воду. Он отвел своими огромными руками мусор и обломки и ухватился за плывущую крышу с лежавшей на ней плашмя какой-то маленькой женщиной. Сизов вскарабкался на крышу. Матросы подтянули его за веревку. Он поднял японку легко, как перышко, и передал ее на борт товарищам.
Это была маленькая пожилая женщина с крепкими ногами. Она дрожала от холода и страха. На нее надели матросскую просмоленную куртку.
– Эбису?! – вдруг в ужасе закричала она, приходя в себя.
Японка кинулась к борту, увидела погибший город, вскинула к небу руки и в отчаянии стала кричать, потом хохотать и рыдать…
– Бабушка, бабушка… – пытались утешить ее матросы.
– Что за люди! – с обидой сказал Сизов.
Он поморщился от удивления. Перед ним на палубе стояли двое измокших японцев.
– Этот сам схватился. А вот этого едва затащили… Его крести, а он – пусти! – рассказывал Маслов.
– Да что это там такое? – закричал адмирал. – Руля не слушается! – оборачиваясь, сказал он подвернувшемуся Сизову.
– Степан Степанович, руля нет! – кричал с кормы Елкин.
– Руля нет… – передал Пещуров.
– Мы без руля, – подходя к адмиралу, спокойно доложил Лесовский.
«Сломлен утлегарь, кажется, трудно будет поставить косые паруса… Но надо как-то управляться!» – подумал Путятин.
Море покраснело, остров посередине залива становился все выше; подымая из-под воды мокрые стены, он плыл все быстрее навстречу кораблю.
Два якоря не держали. Люди крестились и поглядывали на адмирала. Всем известна была его богобоязненность. «Если началось светопреставление, то он бы знал…» – полагал Сизов. Но адмирал с самого начала землетрясения еще не перекрестил лба. «Однако не спасти ли еще кого!» – подумал матрос и для удобства стал раздеваться. Он понимал, что сейчас начнется кораблекрушение и общая гибель.