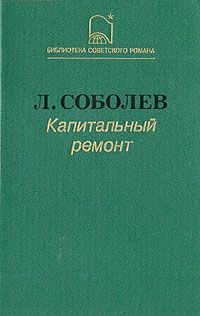— Не из-за штанов, а из-за последствий, — поправил Ливитин, — из-за неуместной строптивости.
…к отдаче в исправительные арестантские отделения сроком на пять лет…
— Так последствия эти были вызваны не ими, а трусостью Греве и Шиянова! Почему Греве не позвал сразу меня? Я бы сумел повернуть дело безболезненно! Матросы мне верили… до сих пор! А теперь…
Морозов отчаянно махнул рукой.
— Рубикон был перейден, претензия во фронте, как известно, разбирается не ротным командиром, — сказал Ливитин наставительно.
Кочегаров первой статьи Бориса Афонина, Антипа Вильченко, Доминика Венгловского… в числе двадцати человек…
— Кого вы убеждаете? Себя? — нервно повернулся в кресле Морозов. — Дело не в дисциплинарном Рубиконе, а в том, что мы боимся матросов…
— Тише, — поднял руку лейтенант, — не затрагивайте не дозволенного начальством!
…к отдаче в дисциплинарные батальоны или роты сроком на один год и шесть месяцев…
— Да, боимся! — горячо воскликнул Морозов. — И в этом все несчастье! Мы в каждом их шаге видим начало бунта, восстания, революции… И сами ведем их к бунту бессмысленной жестокостью, сами!.. Шиянов, Греве, я, вы…
— Исключите меня, сделайте одолжение, — попросил Ливитин, — мое дело служба, и боле ничего.
— Ширма! Вы прячетесь!
Кочегаров 2-й статьи Павла Ефремова, Павла Кузнецова… Егора Советова — к содержанию в военно-исправительной тюрьме морского ведомства на восемь месяцев…
— Не спрячетесь, Николай Петрович, за службу! Мы сами эту службу создаем, как какого-то мрачного божка, и приносим ему в жертву матросов…
— Ну, здесь пошли обличения, — сказал насмешливо лейтенант и сел поудобнее. — У вас необыкновенно высокая душа, мичман Морозов, просто приятно!
Кочегара первой статьи Филиппа Дранкина и учеников-кочегаров, матросов второй статьи… считать по суду оправданными.
— Николай Петрович, — сказал Морозов, мучительно морщась, — зачем вы всегда строите из себя циника? Ведь я знаю, что вы отлично понимаете все эти обличения и в душе соглашаетесь с ними!..
— Не только понимаю, но вполне разделяю трагедию вашей высокой души, сказал лейтенант, тщательно приминая папиросу. — Трагедия — совершенно по старику Станюковичу: жестокий старший офицер и прекраснодушный порывистый мичман. Последний мучается несправедливостью и — как это? — «бледный, с горящими глазами, он подошел к старшему офицеру. „Позвольте вам заметить, господин кавторанг, что вы подлец“, — сказал он, волнуясь и спеша. Офицеры ахнули, Шиянов жалко улыбнулся. Мичман, медленно подняв руку, опустил её на щеку старшего офицера и, зарыдав, выбежал из кают-компании». Вечером мичман, натурально, стреляется, только попросил бы — не в моей каюте и не из моего револьвера.
— Вы все шутите, — сказал Морозов уныло, — а мне на душе так паршиво. Черт знает, какая подлость!.. Я выйду в отставку!
— Для начала отслужите за училище, вам, кажется, еще три года осталось? — усмехнулся лейтенант. — А потом — советую в сельские учителя. Схема ясная: «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих…»
— Прощайте, — сказал Морозов, решительно вставая, красный и злой.
— Сядьте и сохраняйте спокойствие, — усадил его силой лейтенант. Никуда вы сейчас не пойдете. Вы находитесь в состоянии аффекта, в котором человек очень свободно может заехать в морду старшему офицеру и трагически кинуться за борт. Я вас понимаю: вам хотелось бы, чтобы я прижал вашу многодумную голову к своей груди и восхитился бы вашими переживаниями. Ах-ах, какая, мол, тонкая натура! Сядьте и примите холодный душ. Юрий, дай ему папиросу!
Юрий положил на стол приговор.
— А знаешь, Николай, — сказал он, доставая портсигар, — действительно что-то неладно. Уж очень жестокий приговор, мне тоже как-то не по себе.
— Вот еще подрастающий борец за правду! — кивнул на него Морозову лейтенант. — Оба вы — слепые щенки, и черта ли я с вами вообще вожусь? Но один — мой брат, а другой — друг. Поэтому слушайте и мотайте на ус.
Юрий присел на край койки.
— Прежде всего, во избежание недоразумений, поставим точки над «i»: Шиянов — трус, Греве — бездушный карьерист (по терминологии того же Станюковича), и оба, естественно, подлецы. Но дело вовсе не в их подлости… Как, по-вашему, командир — тоже подлец?
— Н-нет, — сказал Морозов неопределенно, — почему же? Ему Шиянов так все рассказал…
— По вашей логике — он тоже подлец: он должен был выйти к команде, а он не вышел.
— Правда, — сказал Юрий.
— Очень приятно. А адмирал?
Морозов махнул рукой.
— Этот кочегаров и в глаза не видел! Ему дали дознание, сфабрикованное Веткиным и Гудковым по рецептам Шиянова. Из-за этого дознания меня на суд не вызвали, так ловко повернул дело Веткин…
— Зачислим в подлецы Веткина и Гудкова, а также все-таки и его превосходительство. Оно же могло проникнуть в суть дела?
— Могло, — опять согласился Юрий.
— Брат более последовательный либерал, чем вы, Петруччио! Итак, кто же не подлец? Один мичман Морозов? Неверно. Он умолчал и не поднял вовремя шума.
— Вот в этом-то и дело, — вздохнул Морозов в отчаянии.
— Прошу принять в вашу компанию подлецов и меня, — сказал Ливитин с поклоном, — я знал эту историю и мог попросить катер. Мое выступление на суде было бы эффектным. А я этого не сделал, ergo[17] — я подлец.
— Правда, — сказал Юрий, фыркнув.
Лейтенант еще раз поклонился.
— Мерси! Итак, получается, что подлецы — все офицеры, а кроткие их жертвы — матросы. Но что из сего проистекает? Предположим, что все офицеры не были бы подлецами, — то есть лейтенант Греве выслушал бы претензию, кавторанг Шиянов снял бы наложенное им взыскание, мичман Морозов сохранил бы невинность, командир благословил бы сию кроткость агнцев, а адмирал пригласил бы всех устроителей этой мирной справедливости на парадный завтрак… Какая счастливая Аркадия!
Лейтенант даже вздохнул.
— И дошла бы сия Аркадия до морского министра. И написал бы морской министр на розовой бумаге поздравительное письмо участникам торжества: в ознаменование, мол, умиротворения на флотах и полного согласия между офицерами и матросами отдаю, мол, под суд за бездействие власти адмирала, командира, старшего офицера, лейтенанта Греве, правившего вахтой, и мичмана Морозова как ротного командира… И вот подняли бы опять гюйс — и повезли бы миноносцы в Кронштадт перечисленных лиц. А вместе с ними — прислушайтесь, Петруччио! — повезли бы опять-таки и кочегаров, кои выразили претензию, стоя во фронте в числе более восьми человек…
— Значит, все дело в этой мертвой цифре: «восемь»? — сказал Морозов раздраженно. — А если бы их было семь?
— Тогда вообще ничего бы не было, — рассмеялся Ливитин. — Бунта бы не было! Бунт бывает — обратите ваше внимание — лишь при числе бунтующих более восьми человек!
— Что за чепуха? — обиделся Юрий.
— Не чепуха, а законы Российской империи, — строго сказал лейтенант и усмехнулся. — Вы желаете существовать, мичман Морозов? Желаете, надеюсь. Так будьте любезны хранить законы и поддерживать их чистоту. Ибо государство, из коего вынут хоть один закон, немедленно обратится в груду анархических развалин… Вот в чем сила мистической цифры «восемь»!
— Вы говорите, что вы не революционер, — сказал Морозов спокойно. Хмель сошел с него вместе с волнением: одно, очевидно, питало другое. — А по-моему, о вас надо сообщить в жандармское управление… Если я вас понял правильно, вы предлагаете изменить систему законов Российской империи?
Лейтенант Ливитин осторожно стряхнул пепел и кивнул головой.
— Вы необычайно проницательны, Петр Ильич, это совершенно моя мысль.
— Значит — надо делать революцию?
— Тем, кого беспокоят эти законы, — да…
— А вам?
— Меня они не беспокоят. И вас, смею заверить, не беспокоят. И его, лейтенант кивнул на Юрия, — и его не будут беспокоить… Они беспокоят тех, кого они давят.
— То есть матросов?
— Не только матросов, — сказал Ливитин, удобно вытягивая ноги, — примерно семь или восемь десятых населения нашей цветущей страны…
Морозов даже оглянулся на дверь.
— Тогда революция неминуемо должна быть?
— Всенепременно и обязательно, — охотно подтвердил лейтенант.
Юрий, уже давно хмурившийся, наконец взорвался:
— Если продолжать твою логику, выходит, что надо самому стать революционером, иначе эта неминуемая революция тебя раздавит!
— А это — как на чей вкус, — улыбнулся лейтенант. — Меня лично эта профессия не шибко восхищает: хлопотно и пахнет каторгой… И кроме того, ничего не может быть гаже фигурки российского революционного интеллигента: брошюрки, сходки, хождение в народ и горящие глаза, благородные речи о страдающем меньшом брате, — словом, революция на полный ход до первого классного чина в департаменте или первого гонорара за полезную адвокатскую деятельность. И тогда — просвещенный либерализм и лицемерные воздыхания… Петруччио, не сердитесь: не вы один, подавленный мировой несправедливостью, трагически хватались за пистолет. Только потом все эти прекраснодушные самоубийцы благополучно примиряются с мировой несправедливостью, получив казенное место и приличное жалованье… Слякоть!