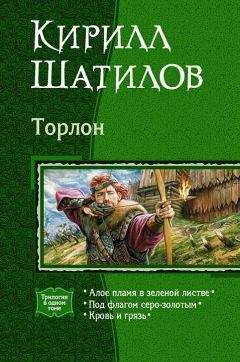Нет, больше он не помнил. Как хорошо, что сон увел с собою боль, терзавшую голову, думать сделалось легко, и стали понятны такие сложные вещи, что по зубам одному лишь Вольху. Но еще лучше наконец-то оказаться среди своих. Найденышу не нужно поднимать веки, чтобы увидеть сидящих полукругом, привычно спорящих Гудилу, Либушу и долговязого Вольха. После таких снов не диво, что он обучился видеть сквозь веки, эка невидаль! Не стоит, однако, раньше времени обнаруживать, что проснулся, лучше послушать, о чем они спорят на этот раз, наслаждаясь родными голосами, лежа в траве своей, тоже родной, поляны. Но что с ней случилось? Где священная ольха, где родник, почему не слыхать шума реки, где заросли кустов, где сестричка сорока? Это не та поляна, не его поляна! Почему? Где они?
Найденыш осторожно скосил глаза под закрытыми веками и удивился еще больше, до испуга. Это чужое место, чужой лес – они родились из его сна, но как? Сон так и ушел бы неслышно, не оставляя следов в памяти, как рыбка в воде, он уже ушел. Но на опушке этого незнакомого леса Сновид тотчас вспомнил все, что исчезало и совсем почти исчезло.
Либуша легонько похлопала мальчика по руке – дескать, молчи! Знала, что проснулся, слышала, о чем думает. Велит не мешать. И правда, он откроет глаз – Гудила забеспокоится, Вольх примется расспрашивать, и их взрослый спор меж собой, а Либуша полагает, что спор важен, прервется. Найденыш будет лежать тихо, разве он огорчит Либушу?
Дир поднял ладонь и мрачно изрек:
– Вы видели. Видели безумие битвы. Всесилие зла. Наш мир идет к безумию и злу, и придет, если не вмешаемся. Надо решаться. Надо предупредить старого князя во что бы то ни стало. Зло породило зло. Законом стало предательство.
Щил торопливо рисовал на траве солнечные знаки, очуривался, как отплевывался:
– Чур меня, Чур! А посмотреть бы дальше, хоть немножечко. Еще бы хоть глазком одним взглянуть!
– Молчи! – Дир язвительно скривил рот и добавил с несвойственной ему прежде злой иронией: – Сейчас тебе Чур как раз один глазок и оставит! Не видел, что ли, что боги отвернулись от нас! А во главе зла – там, впереди – равнодушие, жажда власти. И надеяться не на кого.
Вот это Либуша считает важным разговором? – испугался найденыш. А ведь она такая мягкая, и руки у нее мягкие, и шелк длинных рукавов ее рубахи, косы только колючие и щекотные, потому что растрепаны всегда и лезут в лицо найденышу, когда Либуша наклоняется над ним. Неужели лучше было бы не просыпаться? Но во сне совсем плохо, совсем страшно. Сейчас Вольх уговорит их, сейчас все согласятся, что осталось только зло. Но как же мягкий клевер под рукой, пусть даже это клевер чужой поляны?
– Ну что ты, Вольх! Ну расстроился, дело такое… Разве подспорье – вера в равнодушного бога? Так и дождя не получишь, не то что подручного чуда, – Щил проявлял завидное здравомыслие, они с другом словно поменялись ролями.
– Что-то найденыш у нас не одевши, – Либуша принялась заклинать на спящем одежду, бегала пальцами по траве, искала утерянный поясок. Человек без пояска – неодетый человек, легкая добыча для злыдней. И от других людей совестно.
– Неровен час, увидит кто – что скажем? – дернула собственный рукав, не пожалела, рвала на узкие полоски, чтобы сплести новый крепкий пояс.
Дир прищурился, согласно кивнул:
– Дело! Но лучше б нам нынче не встречать никого.
– А и кому здесь ходить? – закивал Щил, обрадовался, что тяжелый разговор угас. Умница Либуша, как вовремя вспомнила про найденыша, женщины умеют вот так вовремя вспомнить какую мелочь, без женщин никак не обойтись, как ни крути. – Кому ходить? Лес стеной, до реки далеко. Но все одно, придется к людям рано или поздно возвращаться. Вольх-то может без людей прожить, – добавил Щил с непонятной интонацией, то ли осуждающе, то ли сочувствуя. Оба – и Щил, и Либуша – стремились отвлечь Дира от тяжелой мысли о равнодушии богов. Им что, они не верят в равнодушие и к сердцу не примут, известно, нет доверчивей народу, чем русальцы да одинокие женщины.
– Нет же! – Либуша от волнения даже бросила недоплетенный пояс. – Ждать нельзя. Нам надо сразу людей искать, искать возможности предупредить вещего Олега, послать к нему гонца. Вольх был прав там, в Ладоге: надо спешить! Или по-другому сделать? Рассказать богам о том, что видели. Вдруг они не знают, что случится?! А мы расскажем – и боги сразу же нам помогут! Обязательно!
Я помогу. Я великий смертный бог, знающий о равнодушии и законе все, не то что те, будущие недоделанные бурдюки с жидкой больной кровью; я помогу этим жалким, суетливым, недалеким созданиям. Я выведу их из беды, спасу их мелкие жизни, не сохранив своей, драгоценной. Нет, не за счет нее, за счет своей не стал бы. Но я умру, хоть и велик. Выскочка Перун займет мое место, и даже имя мое изоврут людишки, перемешают в дырявом решете своей памяти с именем Велеса, а что этот пузатый лентяй против меня!
Я все видел. Последнюю битву, последний пир, последнюю свою пьяную сытость и последнее счастье оцепенения за ней. А они, немощные волхвы – что? Они малы, пусть живут. Я знаю, кто им нужен. Я знаю, как отомстить за вещего князя тому трусливому князьку, Игорю, посягнувшему на мою добычу. Людишки не захотят мстить за себя, я сделаю это за них, с их помощью, но не их слабыми руками безвестных волхвов. Я возьму человечка знатного и хитрого, молодого и жадного, великого среди людей, почти как я меж богов, но тайно великого!
Они, мои подопечные волхвы, не догадаются, слишком простодушны, беспомощно добры, значит, бесполезны. Куда им вершить судьбы государства, которого еще и нет. Я, я займусь этим вместо них, передвигая людишек, как драконьи зубы, мои зубы, по песчаному берегу. Пусть на память о сегодняшней битве десять, пятнадцать веков спустя люди в Ладоге ищут на песчаной отмели продолговатые светло-коричневые драконьи зубы, пусть верят, что они принесут им счастье! Правда, принесут – тем, кто верит. А стало быть, помнит меня, великого! Я отомщу этим нынешним богам-новоделам!
Мой человек, тайно великий (пусть невелик годами, да ум – не от возраста, а постареть человек успеет), послужит гибели Игоря от дикого племени древлян, живущих в лесах. Мальчишка показал мне, мне одному, они не успели разглядеть, пока бежали по моей реке. Никто не догадается, что это он, мой человек, подстроил, убил трусливого и жадного князя, а досужие разговоры стихнут. Гибель Игоря, тело его, разодранное могучими вязами, – значит, новая сеча! Княгиня, которую они пока еще называют на славянский манер Прекрасою, а не урманским именем Ольга, данным при рождении – этого они никогда не узнают, – затеет другую сечу из любви к убитому мужу. Жаль, не выпью там!
Мой человек погубит и сына младшего князя, великого воина Святослава с длинными усами, в нужный час оставит его, бросит перед неисчислимым врагом на порогах реки, еще большей реки, чем моя; и будет новая брань, новая кровь – не выпью-у!
Мой человек погубит оговором внука жадного князя, во рву, под стенами Овруча, мстя за собственного сына, поздно рожденного, – и новая война, моря крови, ласковой, сытной – не мне!
Я сделаю так, что завистливый князь Игорь сам возвеличит моего человека почти до себя, сделает вторым Я. Я, я сделаю. Я дорого заплачу: мой человек будет верить богу-выскочке, меня отринет. Это ли не цена?! А они, эти людишки, эти болтуны и мечтатели, не догадаются! Всё для того, чтобы спасти их. Ну и отомстить по моему вкусу тоже. За мое будущее ниспровержение отомстить. Я, великий, спасу их шкурки, их оболочки, вместилища нектара, который не опробую. Пошлю им человечка, мелкого, как они, чтоб смог вывести их к тому, моему, тайно великому. Я спасу их, потому что, о Мой Я, как трудно признаваться самому себе, высочайшему судье, я – Я люблю их. И вдруг – я не вижу, увы, не вижу и не знаю больше того, что показал Сновид, так ли это будет, не знаю, – вдруг эта постыдная любовь, этот мой великий нечаянный позор привнесет туда, в тот мир, новую любовь. И любви станет больше, а значит, больше станет сечи, брани и войны. Больше станет крови.
– Пусть ты, Щил, прав – кому здесь ходить? – нараспев повторила Либуша, присаживаясь на выползший наружу корень березы, темный и блестящий, как спина гивоита. – А! Вот идет, кто таков?
Из лесу к ним направлялся верткий человечек в серо-зеленой длинной рубахе, расшитой узором кривичей. Был он тощий, чернявый, с широкими щеками и ртом, колени же так резво сгибались, что казалось, вместо одного шага он делал три. С любопытством оглядел лежащего без памяти отрока, признав Вольха за старшего, спросил строго:
– Что ищете в ловлях княгини Ольги? Не с переметами ли пришли птиц промышлять? А то не на яблоневые ли сады княгини нацелились, на румяную душистую ранетку, не копать ли воровать молодые отводки яблони думаете?
Гудила шагнул вперед, прикрывая пузом нескорого на ответ Вольха: