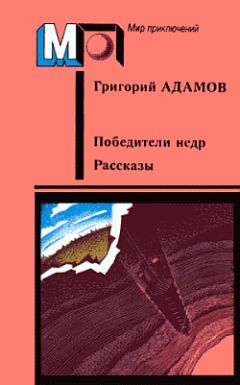Василий вдруг обнаружил, что оказался в кольце серо-зелёных чужих шинелей. Через частокол касок с рожками увидел, как мечутся русские фуражки, погоны и шинели, кинулся на пролом. Однако сзади его крепко ударили прикладом по голове. Василий увидел в сыпавшейся из его глаз искристой мишуре улыбчиво оскаленные лица противника, услышал какую-то незнакомую, но вроде как насмешливую, весёлую речь. Ему показалось, что с ним как бы развлекаются, тешутся им.
— Ходы плен, рус Иван, — услышал он. — Будэшь зэмля Германия пахат.
Отчаяние овладело Василием. Он осознал: удар был такой силы, что бороться — не суждено. Винтовка соскальзывала с раскрытых ладоней. Он упал — упал прямо на своего командира, на Сомова, у которого была надвое рассечена голова. «Матушка…» — подумал Василий, не в силах собрать даже слова.
Но вдруг услышал необычное, произносившееся испуганно слово: «Козак, козак!..»
Различил топот сапог. Приподнял тяжёлую, как колода, голову. Увидел бежавших к Висле и лесу немцев. А от опушки — туча за тучей лошадей и людей проносилась мимо Василия. Свет нового дня резал глаза, будто хотел сказать: «Ты что же не замечаешь меня?! Смотри, любуйся, живи!» Ярко блестела Висла, и впервые она показалась Василию похожей на милую Ангару.
Начала бить из березняка русская артиллерия — снаряды летели за Вислу, попадали в хорошо укреплённые позиции немцев. А потом, когда казаки отступили на своих взмыленных горбоносых лошадях, отогнав и потрепав противника, снаряды стали разносить в щепьё укрепления с правого фланга.
Весь день противника били, гнали, и поздним вечером немцы отступили за Вислу, оставляя иркутские и свои окопы. Василий попал в летучий лазарет. Лежал в кибитке, засыпал, просыпался. Рядом стонал солдат с оторванной ногой. В сумерках подъезжали подвода за подводой с раненными, искалеченными. Тощий, землисто-чёрный солдат с выбитым глазом так кричал, что Василий, потрясённый, но и озлобленный, крепко затыкал свои уши.
Следующим утром Василий уже был отпущен — ранение оказалось лёгким. Запинаясь, быстро шёл ясеневым лесом, глубоко втягивал ноздрями сыроватую, прелую хмарь утра.
Волков легонько потрепал его по волосам с кровавыми струпьями, ласково сказал:
— Ну, здорово, старичок. Снега сёдни не было, а ты — бе-е-е-лый.
— Белый? — не понял Василий, устало улыбаясь Волкову, но губы не слушались — вело их, косило. Левая щека странно подрагивала: будто бы подёргивали её вверх-вниз за верёвочки. Смешило Василия, что не может совладать с тиком. Сказал, всматриваясь в родные серые глаза Волкова: — Бинты.
— Да нет, братишка: бинты — бинтами… Накось — глянь. — Волков подал ему зеркальце. Василий не признал себя: седой клок волос торчал на макушке, лицо — старое, с впалыми щетинистыми щеками. «Высосанный», — равнодушно подумал Василий.
«Если вернусь когда-нибудь в Погожее — ведь уже совсем-совсем другим буду человеком. И сразу стану хорошо жить, только хорошо. А как в Погожем по-другому можно жить?» — отчего-то и грустно, и радостно думалось ему следом.
43
Иркутский полк был выдвинут в район Лодзи, но пока попал в третью линию окоп; ждал распоряжения о выдвижении на передовые рубежи. Прострелянные, вымазанные кровью и землёй повозки летучих лазаретов беспрерывно везли в тыл раненных, изувеченных. Земля тряслась от разрывов снарядов, трещал ясеневый лес, полыхали хутора. Под непрекращающимся обстрелом со стороны противника, который крепко засел за ограждением из колючей проволоки у дубравы с поваленными, исщеплёнными деревьями, заняли окопы, а они протянулись чуть не с полверсты. Утром стала бить русская артиллерия, и немцы, похоже, от озлобления и отчаяния, пошли в атаку. Однако были встречены таким плотным огнём пулемётов и винтовок, что отступили, бросили окопы передней линии и углубились в лес. Иркутяне заняли окопы противника, но продвижение к ним, эти двести — двести пятьдесят саженей, оказалось для солдат и офицеров делом, быть может, более тяжёлым, чем штыковая атака: поле было завалено трупами как русских, так и немцев. Тела порой лежали друг на друге. Василию становилось понятным, что многие бойцы страшно мучились, пытались ползти, борясь за жизнь, но смерть всё же останавливала. К полудню поднялся сладковатый удушающий запах. Василий увидел — зубами повис молодой седобровый немец на третьем от низу ряду колючей проволоки, а рука замерла на четвёртом; столбы покосились, не выдержав мускулистого тела.
— Ишь, как жить хотелось, — хрипло произнёс старший конюх Потап Косолапов. Перекрестился, шепнул: — Упокой, Господи, евоную душу.
— Настрадовалась война, однако, — сказал подпоручик Иванов, зажимая нос платком. Вроде как хохотнул: — Сохраним ли урожай?
Василий Охотников с трудом оторвал немца от проволоки, медленно опустил на землю. Перекрестился, поднимая лицо к выстиранно-чистому стороннему небу. Не мог вздохнуть полной грудью: комок, плотный и большой, засел в груди.
Иркутский и другие полки всё же вынуждены были отступить. На переправе через реку туманным ранним утром скопилось много воиска, подвод, техники, а немцы неожиданно начали наступать. Людей было сложно переправить. Накатывался хаос. Офицеры порой уже не могли справиться с подчинёнными. С обеда понтонный мост стали обстреливать и забрасывать бомбами с аэропланов. Порой близко подходила немецкая кавалерия — завязывался непродолжительный, но изматывающий бой. Трещали пулемёты с русской стороны, бухали винтовочные выстрелы, жутко скрипели понтоны. Немцы скрывались в лесу и с крутояра весело и надменно кричали:
— Добры путь, рус Иван! Штанишка полоскай речка — пук-пук делал, ха-ха-ха!
Русские солдаты махали кулаками, стреляли из винтовок, не метясь. Народ давился, кричал, даже дрался. Иркутяне стояли по-над берегом, ожидали своей очереди, молчали. Строя никто не покидал, хотя ожидание продолжалось более шести часов. На той стороне наивно пушился за полями лес. Костёл тянулся к небу.
Наконец, для иркутян усилиями полкового командира Асламова, пугавшего браунингом кубанских казаков, которые напирали и стремились втиснуться без очереди, образовалась брешь в беспорядочном людском потоке военных и гражданских повозок. Первые иркутские роты ступили на понтоны, но без суеты, без видимой спешки, молчком. А за их спинами кричал с берега, суетился, паниковал озлобленный, вспаренный народ.
Нагрянули из-за меловой, сыпучей гряды холмов простодушно стрекочущие аэропланы. Посыпались, как горох, бомбы на людской поток и мост. Взвыла, вскипела и вспенилась льдистая вода, взнималась высокими столбами. Разорвало понтон — люди повалились в воду, куски тел и одежды подняло в воздух, покрутило и швырнуло. Красную пену подхватило резвое, тугое течение.
Одна из бомб разорвалась в воде рядом с подводой Волкова, когда он уже был в сорока-пятидесяти саженях от желанного берега. Его подбросило и откинуло взрывной волной на соседний понтон. Василий Охотников, облитый с головы до ног фонтаном пенной воды, кинулся к Волкову. Обнаружил на его груди глубокую рваную рану. Взвалил тяжёлое, осевшее тело на плечи и, толкаясь, понёс товарища к противоположному берегу. Нужно было как можно быстрее попасть в лазарет.
Бомбометание закончилось, аэропланы пропали. Однако с берега, из леса, застрочил пулемёт. Солдаты стягивали понтоны, падали в воду, сражённые пулями. Но Василий, казалось, ничего не видел и не слышал. Выбежал на берег, в кустах за холмом положил бесчувственного Волкова на мягкий влажный коврик снега.
Григорий Силантьевич очнулся, разжал спёкшиеся губы:
— В подводе… она… возьми… беги… под рогожкой… мчись.
Василий понял, о чём речь, сбегал к подводе, которую вывел на берег солдат, вынул из заветного схрона икону, укутанную войлочной полстью и холстиной. Над Волковым сгрудились лица однополчан, но он искал одного человека, досадовал, что не находил:
— Василий… Вася…
Люди расступились — Василий склонился над умирающим товарищем. Лицо Волкова становилось мертвенно-бледным, нос заострился, губы вело. Хотел что-то сказать, а не мог, силы оставляли.
— Дай… гляну, — наконец, разжались губы.
Василий открыл икону, приподнял голову товарища.
— Ты, Силантьич, вот чего… не помирай. Как мы без тебя?
— Держись, Григорий.
— Христос с тобой… — говорили однополчане, и Волков старался каждому улыбнуться, каждому заглянуть в глаза, но боли уже мутили рассудок.
— Не помру, мужики, — потянулся всем телом Волков, вроде как встать хотел. Застонал, но не сморщился. Махнул ладонью: давал понять, что ему надо остаться наедине с Василием.
Люди отошли. Волков смотрел на чистое распахнутое небо. Василий ждал, однако показывал глазами солдатам своего взвода, чтобы торопили санитаров. Но санитаров так и не отыскали поблизости: все трое находились на противоположном берегу, а понтоны ещё не были стянуты. Солдатам уже было понятно, что везти Волкова на подводе — напрасно: только измучат человека, а так он спокойнее опочиет.