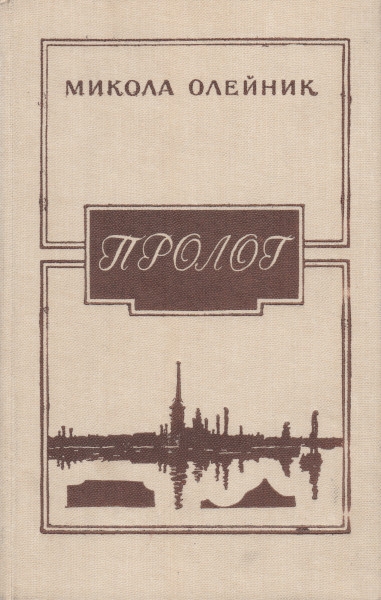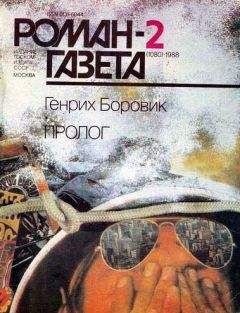уже почти держал Чернышевского за руку, как вдруг его начали перевозить в Вилюйск. Но и после этого мой план казался вполне реальным. Ради него я и проплыл тысячу верст по Ангаре, через пороги, рискуя попасть в тартарары, умереть голодной смертью... Даже поверил в добропорядочность генерал-губернатора и откровенно раскрыл перед ним свои карты, цель своего приезда.
Город остался далеко позади, тропинка, по которой шли, затерялась, а они шли и шли — не торопясь, забыв об усталости и времени.
Слева играло озеро, лизало гранитный берег, слегка пенилось, шуршала под ногами галька, но собеседники, казалось, ничего этого не замечали.
— Да и сейчас я все еще не оставил своего замысла, — продолжал Герман. — Рассчитываю этим летом снова поехать в Сибирь. Чернышевского мы обязаны вырвать из гибельного плена.
— Считал бы честью быть с вами в этом деле, — с готовностью сказал Кравчинский.
— Я высоко ценю ваш опыт, хотя, как видите, не во всем с вами согласен. Но мы уже начали подготовку с другим товарищем, — сказал Лопатин. — Вы его знаете, это Мышкин.
— Мышкин? — невольно вырвалось у Сергея. — Перед этим человеком я могу всем поступиться. Где он сейчас?
— В Лондоне.
— Кланяйтесь ему. Ипп столько для нас сделал!
...Они бродили до вечера, пока солнце не начало садиться и вершины гор не бросили на озеро свои устрашающие тени. Сергей был доволен встречей. Вернувшись в гостиницу, он не захотел больше ни с кем видеться, закрылся в номере и весь вечер, до возвращения Росса, обдумывал пережитое.
Кафе «Грессо», и до сих пор не отличавшееся тишиной, в эти дни было особенно людным и беспокойным. По вечерам сюда сходилась старая и молодая эмиграция, чтобы посмотреть на добровольцев повстанцев, послушать их рассказы. Первые встречи в какой-то степени удовлетворяли Сергея, он действительно считал полезным ознакомить соотечественников с событиями на Балканах, однако вскоре почувствовал, что эти разговоры превращаются в обычную болтовню, и всячески их избегал. Особенно же когда почувствовал расхождение во взглядах на Бакунина. Оказывается, немало женевцев, которые не пошли за Лавровым, не признавали и Бакунина, хотя и считали себя федералистами-анархистами.
Причиной послужило то, что Бакунин будто бы скрыл от них свои отношения с Кафиеро и с другими итальянскими революционерами. Сергей считал это ребячеством, однако переубедить ему никого не удалось, амбиция, присущая части эмигрантов, была настолько сильна, что никакие доводы или уговоры не действовали на них. Кравчинский не видел пользы в том, чем занималось большинство русских, не мог он примириться с постоянными дрязгами, бездельем и сплетнями, которые разъедали и без того обедненную жизнь эмигрантов. Из нескольких десятков русских активны только считанные, остальные же неисправимые говоруны, завсегдатаи кафе и ресторанов. Если бы не Лопатин, Росс, Клеменц да еще несколько товарищей, то хоть беги отсюда. Правда, говорят, появился очень интересный изгнанник из Киева — Драгоманов, но он живет в Кларане, у французского профессора Элизе Реклю [5], в Женеву наведывается редко.
Небольшой столик в комнате гостиницы Дю-Нор буквально завален конвертами, скомканными и порванными листами бумаги, письмами. Ежедневно отсюда в разные концы расходятся полные раздумий, планов гневные и мирные послания. Особенно оживленная полемика идет с Лондоном. Теперь Кравчинский полемизирует с Лавровым! Полемика острая, но всегда уважительная. Считать себя революционером, наставником молодежи и отговаривать от участия в восстании, где бы оно ни вспыхнуло, — не слишком ли? Не пахнет ли здесь демагогией? Не превращаемся ли мы, уважаемый Петр Лаврович, в болтунов, пустословов, политических слепцов, которые только и знают, что поют давно известные всем псалмы?..
Бакунин — вот кто по-настоящему предан борьбе! Ни поражения, ни болезни, ни старость, ни даже отречение друзей не останавливают его. Вечный бой! Вечное желание риска, опасности, бури... Досадно, что между ними годы, что не встретились они раньше, что время неумолимо разрушает здоровье этого великого Бунтовщика. С ним можно было бы творить дела. Не ныть, не прозябать, не чадить дымком в кулуарах, а бороться, сражаться, побеждать или умирать.
Ну, а что же пока? Пока что, volens-nolens, как говорит Успенский, будут сказки, точнее — окропленные живой водой художественности политические трактаты. «Правда и кривда», «Из огня да в полымя»... Они продолжают идеи «Мудрицы Наумовны», идеи «Капитала». События будут развертываться в России, Англии, в некоторых других землях, потому что всюду господствует неправда, всюду кривда и зло являются постоянными спутниками людского бытия. Пора наконец понять, что хозяином земли и всех ее недр является народ, что богатства должны принадлежать тому, кто их создает. Над трудящимися не волен стоять никто, тем более отнимающий у него содеянное. Труд — источник радости, счастья, морального удовлетворения. Для этого ему надлежит быть артельным, коллективным, где бы каждый выполнял работу по возможности, а получал по потребности.
Достигнуть этого мирным, законным путем невозможно. Цари, попы, помещики и капиталисты никогда добровольно не расстанутся со своими богатствами, не отрекутся от власти, — поэтому все надо добывать силой, оружием, революционным путем. Народ всегда готов к борьбе, в нем постоянно накапливается стихийная сила. Надо только организовать, направить эту силу в нужное русло. В этом первейшая обязанность революционера. Он — искра, брошенная в стог соломы, от которого запылает все поле...
Скоро, скоро проснется люд, и горе тогда тиранам!
Кравчинского радостно встречают на заседаниях секции Интернационала, которые проходят каждую субботу, сам Лефрансе, председатель ее, предлагает ему вступить в их ряды; несмотря на острую дискуссию, развернувшуюся между ними, Лавров по-прежнему ценит его и приглашает участвовать в журнале, его статей ждут в «Работнике»... Но Сергей не торопится. По его мнению, всякое членство связывает волю, сковывает инициативу, а революционер должен быть свободным, независимым как в действиях, так и в мыслях. Пламенные речи Шалена, одного из активнейших деятелей Коммуны и затем французской эмиграции, остаются только речами и все более убеждают Кравчинского в безрезультатности такой деятельности. Ораторы, как он заметил, повторяются, варьируют свои мысли, но чего-то нового, значительного и свежего в их выступлениях нет, кое-кто из ораторов любуется своим красноречием, позирует, особенно если в зале присутствуют дамы...
И все же ситуация настолько сложна, групп и группок так много, что быть равнодушным к их спорам, расхождениям, в основе которых лежат часто и принципиальные вопросы, по крайней мере не умно. Кравчинский выступает, отстаивает, как ему