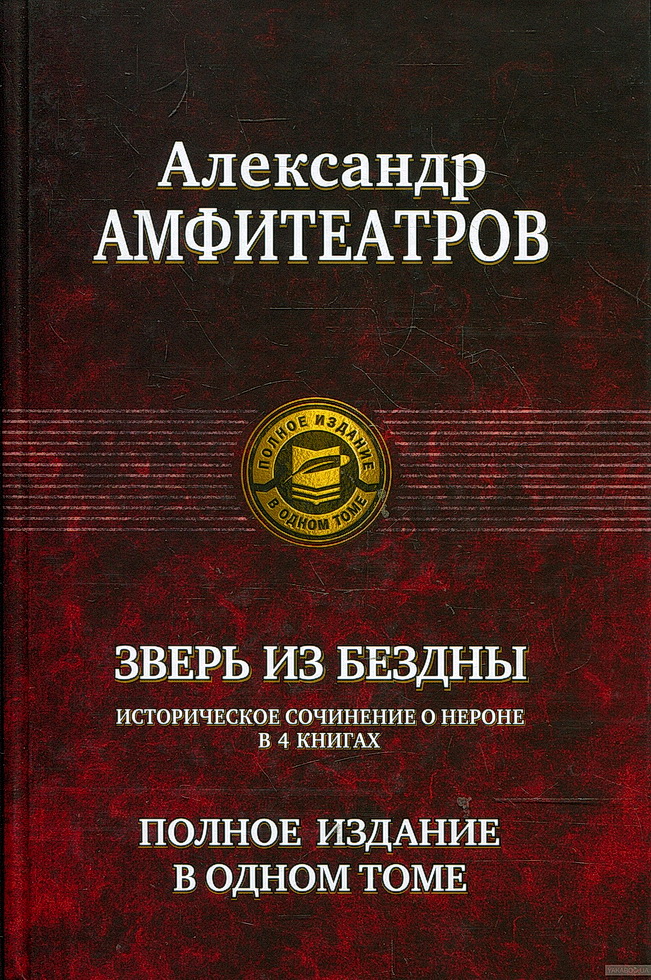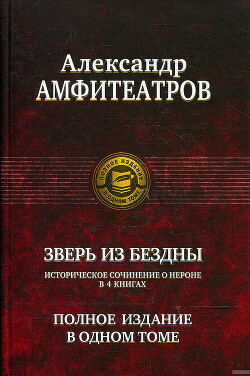провинции, если не лично, то по слухам, и на Соране хотели показать варвару поучительный пример, что Рим не стесняется знатностью и влиянием жертв, когда надо поддержать свой престиж и покарать ослушание. Не мудрено, что семья Сорана, потеряв надежду на спасение старика естественными средствами, возлагала надежду только на чудо. Дочь Сорана, Сервилия, бросилась к колдунам и гадателям: уцелеет ли наш дом, умилостивится ли Нерон? не погубит ли нас сенатское решение? Сервилии шел двадцатый год, что, по южным понятиям и нравам эпохи, не считалось первой женской молодостью. При том Сервилия была не только женщина замужняя, но уже успела перестрадать несчастье овдоветь при живом муже: супруг ее, Анний Поллион, был сослан, как участник Пизонова заговора. Верная ему в разлуке, Сервилия жила одиноко, печально и, кажется, бедно. По крайней мере, для уплаты за магические сеансы ей пришлось продать свои свадебные подарки и ожерелье, на чем — как раз — она и попалась. Ее обобрали, а потом на нее донесли, что она гадает об имени императора. Магия была в Риме под строгим принципиальным запретом вообще, и прибегать к ее услугам было уголовным преступлением, жестоко наказуемым (см. мою работу «Античная магия и государственная религия»). Но жизнь и ничем неистребимые симпатии общества к оккультным занятиям и религиям добились для них некоторой фактической терпимости. Покуда маг не был компрометирован прикосновенностью к уголовному или политическому преступлению, его не трогали, смотрели на его гадания сквозь пальцы, а иногда даже поощряли, как, например, знаменитого Симона, волхва из Гиттона. Оберегая свои головы, маги боялись политики, как огня. Гадание о священной особе императора — само по себе государственное преступление, а тут еще пришла за ним дочь героя политического процесса, несомненного к самому тяжкому исходу. Думая помочь отцу, наивная Сервилия набросила на него тень нового умысла и окончательно погубила и его и себя.
Сцена суда над Сервилией и Сораном — одна из самых трогательных в летописи Тацита. Наш русский поэт Мей, автор трагедии «Сервилия» ужасно огрубил ее изящную благородную простоту ненужными и даже невозможными эффектами: вмешательством народа, трибунским veto, неожиданным исповеданием христианства, попыткой Арулена Рустика к самоубийству: хорош был бы народный трибун, дерзнувший обнажить нож в заседании сената! — и прочими мелодраматическими ухищрениями, включительно до того, что Сервилия у Мея не злополучная вдова от живого мужа, а девица в первом расцвете юности [25]. Эпизод Сервилии так хорош и нежен в оригинальном рассказе Тацита, что лучше всего будет здесь — привести дословно 31-ю главу XVI книги «Ab excessu Augusti», в превосходном переводе В.И. Модестова.
«Когда обвинитель спросил ее, не продала ли она свадебные подарки, не сняла ли с шеи ожерелье, чтобы собрать денег на магические священнодействия, то она сначала поверглась наземь, долго плакала и молчала, потом, обняв алтарь с жертвенником, сказала:
«— Я не признавала никаких нечестивых богов, не произносила заклинаний и не призывала своими несчастными молитвами ничего другого, кроме того, чтоб этого бесподобного отца ты, кесарь, вы, сенаторы, сохранили невредимым. Я отдала свои драгоценные камни, одежды, знаки моего достоинства, как отдала бы кровь и жизнь, если бы они у меня этого потребовали. Мне нет дела до того, кто эти люди, до тех пор мне неведомые, каким ремеслом они занимаются: я никогда не делала упоминания о государе иначе, как об одном из божеств. Несчастнейший отец мой, однако, не знал ничего, и если тут преступление, то я одна виновата.
«Соран, со своей стороны, старался устранить дочь от обвинений, лично к нему обращенных. Она ездила с ним в провинцию. Она слишком молода, чтобы быть соумышленницей Рубеллия Плавта, сосланного шесть лет назад и уже четыре года тому назад казненного. Она не знала об отношениях своего мужа к пизоновцам, к тому же оставшихся недоказанными. Единственная вина Сервилии — чрезмерная любовь к отцу.
«— Пощадите же Сервилия), а со мной делайте что хотите!
«При этих словах, Сервилия бросилась к отцу, — он открыл ей объятья, — ликторы едва успели стать между ними и развели их по местам».
Приступили к допросу свидетелей. Главные показания дал клиент Сорана, Публий Эгнатий Целер. — Эгнатий «напускал на себя важность последователя стоической секты, хорошо умел своей наружностью и устами выражать образ добродетели, а в душе он был вероломен, коварен и скрывал корыстолюбие и сладострастие». Псевдофилософа, подобного Эгнатию, конечно, было нетрудно подкупить на показание против друга и патрона — тем более, что — с формальной точки зрения — Соран, действительно, был виноват, так что Эгнатию приходилось не столько лжесвидетельствовать, сколько топить своего покровителя доверенными ему тайнами. Со стороны Сорана выступил защитником-свидетелем вифинский капиталист Кассий Асклипиодот, — честный и стойкий друг, не пожелавший покинуть в несчастье человека, с которым водил хлеб-соль в дни его блеска. Защита стоила Кассию ссылки и конфискации всего имущества. «Так- то, — восклицает Тацит, — равнодушны боги к поступкам добрым и злым!» Сорану и Сервилии было предоставлено право избрать себе род смерти.
Осудив порок стоиков, щедро наградили добродетель доносчиков. Обвинители Тразеи, Эприй Марцелл и Коссутиан Капитон получили пять миллионов сестерциев (500.000 рублей). Осторий Сабин, обвинитель Сорана и Сервилии, получил за спасение отечества от дряхлого старика и девятнадцатилетней глупенькой женщины 1.200.000 сестерциев (120.000 рублей). Не был забыт, конечно, и Эгнатий, но ему деньги не пошли впрок. «Он послужил примером, как нужно остерегаться не только людей порочных и запятнанных дурными делами, но и таких, которые, под видом добродетельной жизни, являются лицемерами и коварными друзьями». Повидимому, кафедра этого изумительного профессора, который, уча началам дружбы, так подло продавал своих друзей, потеряла своих слушателей. Пять лет спустя, Флавианская революция смешала шашки в римской республике, и стоическая аристократия получила возможность посчитаться кое с кем из былых врагов своих при Нероновом режиме. Великий и истинный учитель стоической секты, Музоний Руф, поднял в сенате вопрос о реабилитации священной памяти Сорана. Процесс его был подвергнут пересмотру, а доносчик Эгнатий привлечен к ответственности. Как и следовало ожидать, Музоний Руф провел дело превосходно. «Маны Сорана получили удовлетворение», а Публий Эгнатий Целер был осужден, хотя защиту его вел, далеко не к славе своей, знаменитый еще более Музония Руфа, циник Деметрий: тот самый, что, в качестве как бы духовника от философии, присутствовал при последних минутах Тразеи. Несомненно, большой и острый, но капризный ум Деметрия скрывал под философской оболочкой огромное и чересчур хвастливое тщеславие. Деметрий — правда, убежденный, но уж слишком громкий фразер и позер. Впоследствии,