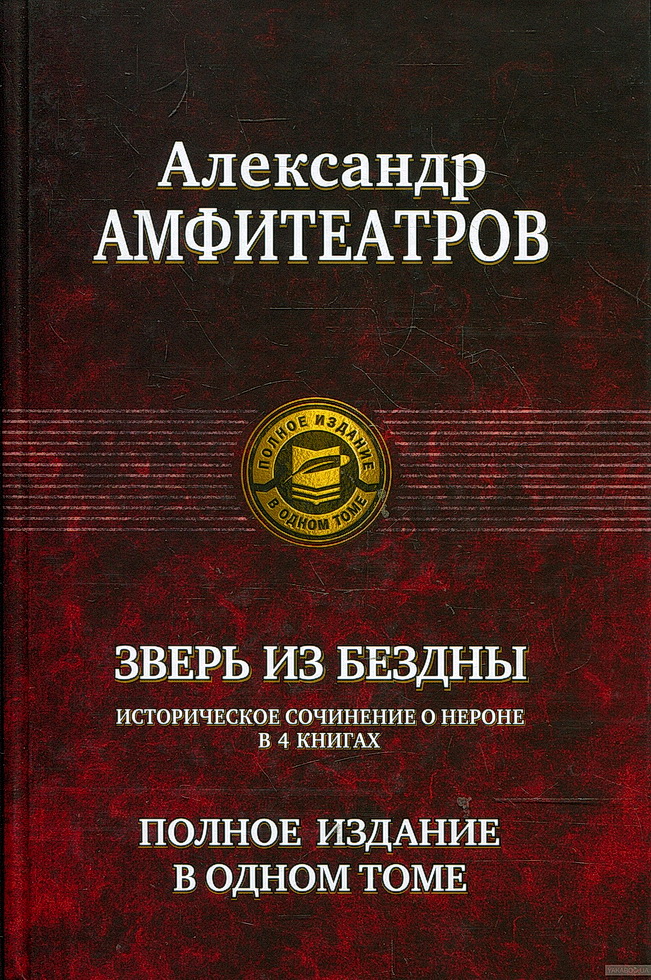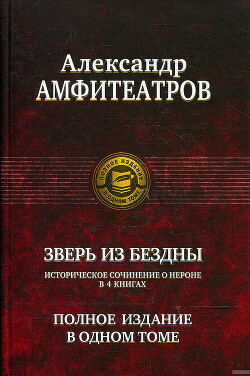при Веспасиане, ему ужасно хотелось «пострадать» за свой образ мыслей, а хитрый старик-император именно этого-то удовольствия и не хотел ему доставить. Странный каприз Деметрия выступить защитником заведомого негодяя Тацит справедливо аттестует скорее честолюбивым, чем честным. То-есть, Деметрия, кажется, взял задор доказать, что хороший адвокат в состоянии вызволить из-под суда даже и несомненно виновного человека. Но личность Эгнатия, «предателя и осквернителя дружбы, за наставника которой он себя выдавал», внушила судьям непобедимое отвращение. Сам Эгнатий чувствовал себя столь безнадежно преступным, что не имел духа возразить обвинителю хотя бы единым словом. Сенаторы сделали Музонию Руфу овацию, достойную его честного подвига. Деметрий же ушел, освистанный. (См. в томе III «Зверя из бездны» и мою работу об «Античной Магии», а также прим, в конце книги.)
Итак, предатель стоиков кончил худо, наказанный по делам своим. К сожалению, не лучше была позднейшая участь благородного Арулена Рустика. Как было уже говорено, этот пылкий стоик впоследствии издал элогий Тразее. Император Домициан, познакомившись с этим произведением, разобрал, что оно клонится не столько к реабилитации, сколько к резкому протесту против деспотического режима, к которому он, Домициан, вернул Рим. Несчастный Арулен Рустик был был осужден на смерть в 94 году, конечно, при полном безмолвии и бездействии со стороны партии, «берегущей сенат»: «наши собственные руки повели в темницу Гельвидия» и ряд других стоиков, в числе которых и Рустик — говорит в «Агриколе» Тацит. Его сочинение о Тразее было в руках Тацита и, по всей вероятности, легло в основу эпизодов о Тразее в летописи «Ab excessu Augusti», что объясняет их несколько напыщенный, панегирический тон. Так как Арулен Рустик, как и всякий панегирист и памфлетист, заботился в элогии, главным образом, о дидактическом противопоставлении любимого героя своего нравам эпохи, в которую элогий писан, — и так как, вопия против Нерона, Арулен Рустик чаще думал не столько о давно мертвом Нероне, сколько о живом Домициане, — то исторические данные его, а, следовательно, и летопись, на них построенные нельзя принимать заслуживающими большого доверия. Равным образом, как и Тацитово жизнеописание Агриколы, положившее слишком заметную печать на образ Тразеи в «Летописи», кто бы ее ни писал. Изучая их, читатель должен считаться и с умышленными анахронизмами, и с партийной окраской слишком уж белой добродетели и слишком уж черного порока.
Событиями, рассказанными в предшествующей главе, кончается летопись Тацита о Нероновых временах, приближая тем самым конец моего исследования. По крайней мере, конец, так сказать, официальный, так как объем этого тома позволяет мне лишь изложить факты последних лет Неронова правления, сохраненные анекдотическим жизнеописанием Светония и конспектом утерянных книг Диона Кассия, трудом византийского монаха Ксифилина, жившего в XI веке нашей эры и, как я уже говорил однажды, стоявшего по отношению к предмету своего изложения не в лучшем состоянии осведомленности, чем историки нашего времени, а скорее в много худшем. Как читатель увидит, факты эти, содержащие развязку грандиозной Нероновой драмы, часто смутны и неожиданны настолько, что кажутся беспричинными. Точно судьба и природа утомились бесконечным спектаклем, который, изобретательно обставляясь все новыми и новыми интересными эпизодами, никак не мог доползти до заключительной морали с наказанием порока и торжеством добродетели, а потому порешили прибегнуть к условнейшей и решительнейшей из театральных развязок, через появление на сцену Deus’a ex machina.
Именно такой странной театральной катастрофой изобразил крушение Неронова режима Ренан в своем эффективном, сверкающем переливами бенгальских огней, «Антихристе».
«Наконец, в благороднейшей части рода человеческого проснулась и заговорила совесть. Восток, за исключением Иудеи, переносил, не краснея, постоянную тиранию и даже чувствовал себя сравнительно недурно, но на западе еще не умерло чувство чести. К чести Галлии, свергнуть тирана — и теперь как не раз потом бывало — выпало на ее долю, стало делом ее рук. В то время как германские солдаты, полные ненависти к республиканцам, тупо закоснелые в принципе не рассуждающей верности, рабского повиновения, играли при Нероне, как и при всех других императорах, роль телохранителей и опричников, — аквитанец, Юлий Виндекс, потомок древних царей этой страны, первый кликнул клич восстания. Движение сразу приняло истинно галльский характер: не раздумывая о последствиях, галльские легионы (?) с увлечением примыкали к революции. Виндекс дал сигнал около 15 мая 68 года (по Шиллеру и др. — в первой половине марта, что много вероятнее). Известие о бунте быстро достигло Рима (по Шиллеру — 19 марта). На стенах города появились оскорбительные для Нерона надписи: «Он пел, — зло острили шутники, — покуда не разбудил петухов (gallos)».
Все это красиво и сильно сказано, хотя и возбуждает улыбку мстительное противоположение французом-историком семидесятых годов XIX века свободолюбивых галлов деспотолюбивым германцам: довольно дешевая отплата последним за то, что, поколотив в 1871 году галлов и содрав с них 5 миллиардов контрибуций, германцы умели основать, на костях галльских, свое национальное единство и великую империю, которая сразу стала хозяйкой европейского мира и мира.
Но красивые слова не отвечают на вопрос о машине, из которой выскочил божок восстания, должный покончить Неронову трагикомедию и убрать со сцены ее главного актера.
В книгах моих, следующих за «Зверем из бездны», — «Армения и Рим» и «Арка Тита» — я подробно буду говорить о национальном вопросе в Римской Империи и сопряженных с ним движениях. Здесь я ограничусь лишь указанием ближайших поводов, давших жизнь восстанию, которое стоило жизни и власти цезарю Нерону.
На первом плане этих поводов Дюрюи ставит один, кажущийся мне второстепенным, хотя нельзя отрицать и его влиятельности.
Во главе империи, войнами созданной и, почти на всем своем пространстве, средствами военной оккупации управлявшейся, стоял человек, не только не военный, но откровенно не любивший войну, военных и воинственность. «Нерон оскорблял знаменитейших своих генералов, подчиняя их контролю своих вольноотпущенников, и отнимал у армии как раз тех командиров, которых она любила, потому что они водили ее к победам. Светоний Паулин, победитель мавров и бретонцев, был в немилости. Плавтий Сильван, талантливый генерал-губернатор Мезии, забыт на своем посту без повышения. Два брата — Руф и Прокул — из древнего рода Скрибониев, командиры двух германских армий, были вызваны в Рим под предлогом совещания с императором о делах их провинций и, на пути, получили приказ умереть. Домиций Корбулон, — герой парфянских войн, победитель армянского царя-витязя Тиридата, популярнейший полководец, воистину «Белый генерал» этой эпохи, вызванный с театра войны в Грецию, едва ступил на землю в Кенхрейском порту (ныне Кехриес, главная гавань древнего Коринфа