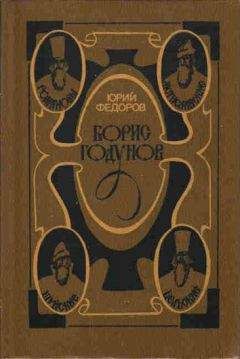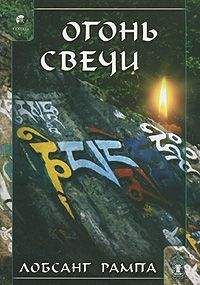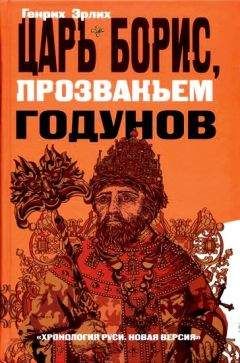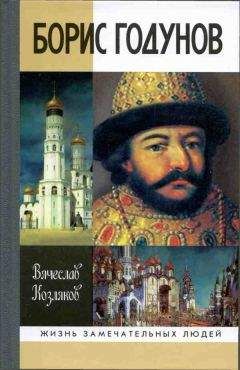— Суета сует, — шептали неслышно тонкие губы патриарха. Пергаментное лицо страдало.
Когда истекло время траура по Федору Иоанновичу, собрался в Москве Земский собор и всяк возраст бесчисленных родов государства начертал свою волю в грамоте, призвав на царство Бориса. Но была в той грамоте немалая оплошка. Боярская дума, восстав против нового царя, не подписала грамоту, а без той подписи бумага была слабенькой и веры ей было мало. Великую изворотливость надо было явить — так составить и подписать грамоту, дабы и без подписей думных стала она крепкой основой к царствованию на все времена рода Годуновых. О том были и мысли Иова, и печаль.
В обезлюдевшей Москве многое успел Иов. Не жалея ни времени, ни сил, объехал московские монастыри, славя Бориса и убеждая монастырских иерархов скрепить грамоту своими подписями. Настаивал, со всею страстью уговаривал и многих сомневавшихся и колеблющихся склонил руку приложить к грамоте. Порадел, дабы и из дальних монастырей игумены подписали грамоту, и в том тако же преуспел. Два игумена Свято-горского монастыря скрепили грамоту подписями, вяжецкие игумены приложили руку. Многие монахи, пришедшие в Москву, священники — даже из тех, что ранее никогда к соборным грамотам не допускались, — поставили свои подписи.
Однако не во всем споспешествовала удача патриарху.
Митрополит казанский Гермоген — третье лицо после патриарха в православной церкви — подписью так и не скрепил грамоту. А его рука на той бумаге была очень важна. Посылали в Казань боярина князя Федора Хворостина — человека прыткого, верткого, медоречивого, — но и он не смог склонить упрямого Гермогена. Федор Хворостин прискакал в Казань — и на подворье митрополичье. Словами раскатился. Гермоген встретил его сурово. Поджав губы, сказал строго:
— Все в руце божьей.
Князь Федор, желая смягчить митрополита, заулыбался всем лицом. Гермоген на улыбку не ответил. Недобрые глаза его омрачались еще более. Долгий у них был разговор, но все хлопоты князя Федора оказались пустыми. Упрям был казанский митрополит и на раз сказанном твердо стоял.
Да что Гермоген! В Кремле, рядом, далеко не надо ходить, и то не все иерархи поддержали Иова. Уперлись: нет и нет. Никакие слова убедить их не могли.
Иов сухими невидящими глазами оглядывал сад. Из зелени листьев, показалось ему, выплыло львиное лицо казанского митрополита. Яростные глаза и, как грива, вздымающиеся надо лбом седые волосы. Гермоген смотрел хмуро. Сильный был человек, властный. Что такому боярин князь Федор Хворостин? Гермогена испугать было нелегко. Такого как бы еще и самому не забояться. Матерый был и знал — грамота надолго, а может, и навсегда. Не спешил присягнуть Годунову. На Шуйских, Романовых поглядывал, как и казанский воевода Воротынский Иван. О том Иову было известно.
Листья заколебались под ветром, и лицо казанского митрополита исчезло. Патриарх переложил жезл из руки в руку, изогнул губы в гримасе. «Честолюбив, коварен, — подумал о Гермогене, — но посмотрим, чья возьмет». Сердцем ожесточился.
Вот так получилось с Иовом-то. Когда умер Федор Иоаннович, патриарх растерялся в великом страхе. Да и как было не растеряться? Вся Москва пришла в боязнь. Закрыл глаза патриарх блаженному Федору, но не знал, что дальше-то делать, куда идти, к чему звать. За Бориса, правителя, схватился, как хватаются в ночи, в кромешной тьме, за забор, дабы не упасть в неведомую ямину. Что там, впереди, не видно, вот и хватается человек испуганными руками за первую опору. Здесь, знает, твердо, удержусь, а оглядевшись, сделаю другой шаг. Да и луна, может быть, выглянет. Перебирает руками плахи, ступает с осторожностью, едва касаясь земли. Надежда одна: выйду, выйду из тьмы, а там оглядимся. И, испуганный, прижимается к забору, льнет к горбылям. Вот так-то и Иов держался Бориса. Он был ему опора в безвременье междуцарственном, в ночи боярской распри. Позже патриарх умом понял, что Борис, царь, истинная его надежда. Затолкают, замнут его без такой опоры высокородные бояре, московское знатное племя, князья жизни. Знал патриарх, что вот и Гермоген — и дерзкий, и гордый — не от строптивости восстает против Бориса, но по наущению Шуйских. От них он и милости приемлет, дорогие подарки, их властью пользуется и им же споспешествует в делах, противных новому царю.
Теперь же не только умом, но и сердцем восстал за Бориса Иов, а восставшее сердце может многое. Зажечь его трудно, но коли охватит сердце пламя, коли раскалится оно — нет ему преграды. И многое вершилось на земле яростным сердцем и плохого, и хорошего.
Патриарх, перекрестившись, оборотился к услужающим. Тотчас к Иову подошел начальствующий над патриаршей канцелярией. Склонился низко. Иов остановил на нем взгляд и долго и внимательно разглядывал острое, сухое, умное лицо с красными веками — должно, от сидения за бумагами — и скучными глазами. Известно было патриарху: сей крючок — великий мастак в письменном деле и многое может при усердии.
Выпрямившись в кресле, патриарх сказал:
— Приписку следует к грамоте сделать, что-де боярин князь Федор Иванович Мстиславский… — Передохнул. — Да и все бояре, и окольничие, и дворяне, и дьяки, и гости, и лучшие торговые люди ото всей земли Российского государства на Земском соборе заседали…
И не договорил. Склоненный дьяк взглянул растерянно. Из глаз плеснул страх. Понял мысли патриарха и убоялся. Знал: такое не забудется ни в сей день, ни через годы, да и неизвестно, во что станет сие дело, какой платой за него придется рассчитаться самому или его детям.
Иов упрямо царапнул костяными пальцами изукрашенное драгоценными каменьями яблоко патриаршего жезла. Сказал настоятельно:
— Господь надоумит их в сей нужной для отечества службе, наш же долг подвинуть их к тому шагу.
Дьяк послушно нырнул головой книзу. Решил: плетью обуха не перешибешь и не ему — сирому — перед сильными поднимать голос. Тонок он, слабее комариного писка.
Руки Иова в изнеможении легли на подлокотники кресла. Приписка сия, хотя бы и в несколько слов, меняла силу грамоты и говорила всем и каждому, что Борис избран царем полномочным собором с боярской Думой во главе.
— «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои», — прочел патриарх стих Давида, опуская грешную голову.
17
Король захохотал. Голосовые связки его громыхали и лязгали, как цепи поднимаемого крепостного моста. Дворцовый маршалок, услышав хохот Сигизмунда, даже споткнулся и чуть не упал у дверей королевского кабинета. Маршалок. торопливо перекрестился и со святыми именами — Иезус и Мария — приотворил дверь. Увиденное им в королевском кабинете привело его в еще большее изумление. Он широко раскрыл глаза, недвижимо застыл.
Сигизмунд стоял посреди палаты с побагровевшим лицом и, сгибаясь пополам, хохотал, отпихивая от себя прыгающего вокруг дога. Собака, как и маршалок, была явно в недоумении. Наконец, в отличие от безмолвствовавшего дворцового маршалка, дог разразился лаем, окончательно оглушив и испугав несчастного старика.
Но то было не все. У окна королевского кабинета, за столом, сидели с вытянутыми лицами папский нунций Рангони, литовский канцлер Лев Сапега и один из влиятельнейших панов сейма вислоусый старик с вытаращенными глазами. Они были также растеряны.
Дворцовый маршалок, не найдя возможным войти в королевские покои в столь неожиданной обстановке, да еще в присутствии таких важных государственных особ, притворил дверь и еще раз прошептал ставшими вдруг непослушными губами:
— Иезус и Мария…
В веселое расположение духа Сигизмунда привел рассказ Льва Сапеги.
Последнее время дела короля в родной Швеции час от часу становились хуже и хуже. Его соплеменники явно не хотели более терпеть Сигизмунда на шведском престоле. Ни дел великих, ни побед воинских не видели от короля. Иезуиты шныряли по стране, как голодные крысы, и спасения от них не было ни купцам, ни баронам. Дядя короля, герцог Карл, набирал все большую и большую силу. В королевских домах всегда находится дорогой родственник, портящий печень царствующему лицу. Сторонники герцога в Стокгольме, не скрываясь, говорили, что шведской короне совсем ни к чему оставаться на голове воспитанника иезуитов Сигизмунда. И с надеждой поглядывали на дядю короля. Герцог обещал прогнать иезуитов, возродить старые роды, дать волю купцам, воевать ганзейские гавани на Балтике, и ему верили. Сигизмунд проклял Карла и был готов начать с ним открытую войну. Но корона еще оставалась за ним, и он не решался начать боевые действия. К тому же короля сильно смущало состояние польской казны. Поход с мечом в родную Швецию, с тем чтобы наказать ослушников, стоил бы больших денег, а их-то не было.
Как-то Сигизмунд в сопровождении королевского казначея — дородного пана с застенчивым лицом и необыкновенно юркими для его тяжелого тела руками — спустился в дворцовые подвалы. Королю надоели разговоры о безденежье, и он захотел сам осмотреть казну, забыв истину, которая гласит, что, ежели короли спускаются в свои сокровищницы, с уверенностью можно сказать: полки казны от золота не огрузли, не просели под тяжестью драгоценных мехов и дорогой посуды. В мошне шарят, когда она пуста. В полный кошель только сунь руку — и вот они, дорогие, зазвенят на ладони.