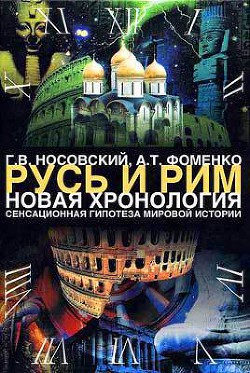в размышлении, которое нередко оборачивалось созерцанием. И было созерцание в усладу ему, в усмирение чувств, они словно бы растворялись во мраке и уж ничем не напоминали о себе. Он делался частью сущего, не имеющего границ в пространстве и во времени, малой песчинкой на речном дне или слабым деревцем в огромном непроходимом лесу, или едва поднявшейся на крыло птахой, потянувшейся вослед за нескончаемой вереницей птиц, но вместе и этой вереницей, и непроходимым лесом, и каменистым речным дном. Удивительное это было состояние, отодвигающее от суетной жизни, его не страшило, что он мал, как не было торжествующе в душе, что велик, и малое, и большое принимались им ровно, как если бы и то, и другое исходило от него самого, но в то же время не являлось ничьей собственностью, а проживало в мире с сущим. Видбор в эти минуты не принадлежал себе, но чему-то еще, а вместе с тем и сам как бы являлся чем-то еще. Тут не было великого людского множества с его извечным непостоянством в мыслях и чувствах, ни самих Богов, тоже ищущих противоборства и торжествующих, когда приходило одоление супротивной стороны. Тут отмечалась удивительная ровность и постоянство и неустремленность и ко благой цели, точно бы благо уже в самом недвижении, разлитом в пространстве, и в дивном отблеске, излучаемом с немыслимых высот. В том состоянии, в котором находился Видбор, уйдя в созерцание, он ничего не знал о своем прошлом, ни о том, что представлял из себя ныне, в нем не отыскивалось и мимолетного воспоминания о прожитых днях, о тех треволнениях, что претерпел, прежде чем обрести смысл существования, о сомнениях, что одолевали, пока не покинул свою отчину в Турове, близ князя Мирослава, многие леты ходившего под стягом Великого Святослава, покоряя дальние и ближние народы, и все еще не утратившего надежду на соединение словенских племен, прозревая в этом неодолимость грядущего русского духа. Но случилось однажды так, что увиделось Видбору словно бы даже нечаянно, ничем в нем самом не подготовлено, вся ненадобность его ни к чему не влекущей, даже к слабому успокоению в себе самом, суетной жизни. Она вдруг открылась перед ним в обнаженной наготе, однообразная, жадная на желания, которым не найти удовлетворения, и, коль скоро исчерпалось одно, тут же появлялось другое, еще более отодвигающее от сердечного покоя. Нанизываясь друг на друга, они истачивали сердце, ослабляли сущее в человеке, отдвигали его от изначального предназначения. Вот, оказывается, в чем дело, не знал Видбор раньше, приняв малокняжье обличье и властвуя, часто сурово и неправедно, над себе подобными, которые тоже ни о чем не задумывались, а слепо следовали за своими желаниями, что человеку нужно совсем иное: не выпадать из потока, который есть сущее, соединившее в себе мертвое и живое, пребывающее в недвижении или в самом изначалии жизни. Далеко ли ушел человек от земного червя, не есть ли он лишь отражение хотя бы и в улучшенной форме поползновений его?!..
Но, может, даже не так, и откровение снизошло к Видбору не в одно мгновение, подобно озарению, и накапливалось многие леты особенно после того, когда по смерти родичей он возвеличился над ближними. И тогда приходило ему в голову: «Почему поднят я, а не еще кто-то?.. Иль я лучше других? Но чем?.. Отчего же тогда во мне все пусто и так растолканно?..»
Видбор часто задавался этими вопросами, и близкие люди недоумевали, не понимая, что происходит с ним, почему в глазах у него плещется тоска, почему он не уймет ее, а точно бы даже возжигает в себе, лелеет?..
Было ли так, нет ли, он ныне и сам не скажет, но что верно, то верно, неприютность посреди мира росла в нем, матерела. И однажды в душе как бы что-то взорвалось, обжегши горячо, а потом… потом стало ровно, отстраненно ото всего.
Наверное, если бы Видбор не изводил себя вопросами, то ничего бы в нем не поменялось, но сделалось так, как сделалось, и это было благо. Благо еще и то, что жизнь в Заславье шла ни для кого не угнетающе, свободно от желаний. Спасите Боги Рогнеду, это она изначально повела дело так, чтоб не возгорались тут постыдные людские страсти, но были приглушены. Наверное, и Владимира тянуло в эти места еще и потому, что тут он чувствовал себя ни от кого не зависяще, тут он не искал ответа на разные вопросы, как в стольном граде, подымаемые им ли самим, Большим ли воеводой, неуемным в деяниях. Вот и ныне, чуть только въехав в ворота и глянув на низкие приземистые строения, хором обступившие Рогнедины терема, Владимир точно бы сбросил прежние одежды и превратился в обыкновенно живущего в миру человека и улыбнулся чему-то, скорее, тому, что в сущности никогда не остывало на сердце. Хотя чего греха таить, иль мало у него наложниц в разных городах? А ведь он не очень-то падок до женской ласки, это Добрыня расстарался, приметив скукоту в глазах у Великого князя, и хитро и умело подтолкнул к сему. Но да ладно, Бог ему судья!
Владимира тянуло к Рогнеде, хотя она бывала насмешлива и зла, могла сказать такое, что скажи подобное кто-то другой, не сдобровать бы ему. Зато угадывалось в Рогнеде ясное и умное, ласкающее глаз, умиротворяющее душу.
Она сидела на сенях и смотрела во двор, в полуденную пору безлюдный, и не сразу увидела Владимира, когда же увидела, в лице у нее воссияло, она почувствовала это и поморщилась, подумала, что ломает в себе, отодвигает неостывшее от прежней неприязни, проявляет поспешность. Но что делать, коль все перемешалось на сердце? Иль не хотела бы она, как многие леты назад, сказать сурово: «Не хочу рабича?!» В том-то и дело, что хотела бы, и — не могла.
Владимир приехал на белом жеребце, сидел в седле прямо и строго, приподняв левую руку, широкой ладонью загораживая глаза от слепящего солнца и выглядывая что-то… Или кого-то?.. Рогнеда улыбнулась и спустилась вниз по белым твердым ступеням, подошла к Владимиру, взялась рукою за стремя, сказала низким грудным голосом:
— С приездом, княже! — А помедлив, уже тише и поспешней добавила: — Что ж Юлия отпустила, не удержала во дворце?
Владимир рассмеялся, слез с седла, обнял Рогнеду, и они прошли в ее покои. А скоро там появился сын их Ярослав, следом за ним и дядька его. Ярослав русоголов и ясноглаз, в расшитом золотом кафтане, в высоких ямшевых сапогах, уже не мальчик,