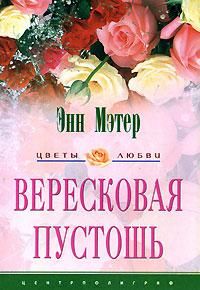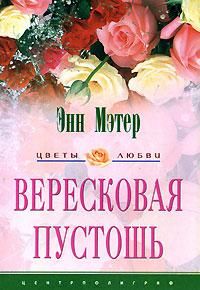— Деньги семьи. Той самой семьи, которой вы тяготитесь. Нет бы спасибо сказали.
— Не ваше дело!
— Вы не только вернете свой капитал, но и приумножите его. Все что нужно — это немного времени.
— Я думал, вы человек незаурядный, на голову выше людского стада. Я вам доверился. Но нет, вы такой же баран, как и все. Грязный, жадный и ни на что не способный.
— Неправда. Отпустите меня.
— Жалкий торгаш. Ничтожество. Жулик. — Поэт встряхнул его обеими руками. Аллен прижал к груди книгу расходов, его веки подрагивали от дыхания великана Теннисона. — Я не позволю вам погубить меня, Мэтью Аллен! Я заставлю вас выплатить мне долги. И всей моей семье! Зачем, зачем вы так с нами обошлись?
— Да нет же. Все будет в порядке. Я ваш друг. Послушайте, у меня есть идея: я застрахую свою жизнь в вашу пользу. Это абсолютная гарантия.
— Чего?
— Что вы получите обратно свои деньги.
— Но для этого нужно, чтобы вы умерли?
Крузо принялся обдумывать свое бедственное положение и обстоятельства, в которых он оказался, попав на этот остров. Для ясности он противопоставил хорошее худому, словно дебет и кредит, уподобив тем самым бухгалтерской книге свой блокнот, страницы которого сморщились от морской воды.
Худо: я не могу защитить себя, если на меня нападут умалишенные, разумные люди или дикие звери.
Хорошо: я стойкий и прославленный боец и готов постоять за себя кулаками.
Худо: с тех пор как мой корабль потерпел крушение, я лишен любви своих жен, удовлетворения мужских потребностей и улыбок детей.
Хорошо: еды хватает. Добывать пропитание не нужно.
Худо: я один-одинешенек.
Худо: я не там, где должен быть, не дома.
Худо: меня мучают воспоминания, фантазии и приступы бесчувствия.
Худо: моих стихов давно никто не читает и не знает.
Хорошо: природа для меня мать родная, и здесь она со мною, как и везде, только лик ее странен, ибо очень уж не похож на те края, которые я люблю.
Худо: я хочу Марию.
Худо: я могу тут умереть, и хочу Марию, и даже немного жалею, что не погиб во время шторма.
Воск и лаванда. Запах дома — вот что подействовало на Ханну сильнее всего. Скатерти, обивка — все благоухало травами, а полированное дерево испускало едва заметный умиротворяющий аромат. В прихожей гиацинт в горшке разливал вокруг себя душистый запах, который так и хотелось сравнить со светом яркой лампы. Быть может, дом был и мал, но ладен, чист и тих. Везде были постелены новые ковры, по темно-красному полю вился затейливый узор, а ворс поднимался над полом по меньшей мере на дюйм. Они сидели за чаем, и солнечный свет падал на них сквозь окно с эркером, золотя чашки.
Тому, что из Доры получится отменная жена, удивляться не приходилось, но уют Ханну приятно удивил. Она и представить себе не могла, насколько ей здесь понравится. Джеймс со всей очевидностью гордился респектабельным очарованием своего семейного очага и сам себе улыбался, когда его гости в очередной раз выказывали восхищение. Дора чувствовала себя не столь непринужденно. Она не сводила глаз с брата и сестры и неусыпно следила за соблюдением приличий. Когда Фултон доел свой кусок пирога и откинулся в кресле, вытирая рот салфеткой и шумно вдыхая через нос, она взглянула на него со значением. Глядя, как Дора безмолвно осуждает и порицает Фултона, Ханна исполнилась злорадства и решила подразнить сестру.
— Надеюсь, это твой лучший сервиз. Помнится, на свадьбу вам их подарили два.
— Ну, разумеется.
Ханна ощутила, как ее шея, а следом и лицо, покрываются красными пятнами. Ей вдруг стало стыдно. И резкость, прозвучавшая в ответе Доры, была более чем к месту. Потешаться тут совершенно не над чем. Зато успехи Доры заслуживают уважения. Доре всегда хотелось покоя и благопристойности — и вот они тут как тут. Дора не спрашивала, что творится дома, потому что ей до этого не было дела. Все эти разговоры об описи и продаже имущества были ей отвратительны. Она даже не интересовалась здоровьем отца, памятуя о том, что его подкосило. Она считала, что ей ни к чему об этом знать. Они с Джеймсом — новое поколение, у них свой дом, где они защищены от причуд ее родителей и больше никогда в жизни не встретят ни одного сумасшедшего.
Фултон вежливо поинтересовался у Джеймса, как идут дела в банке.
— Какое чудесное окно, — сказала Доре Ханна.
— Да, — ответила Дора, — весь полуденный свет наш.
Любить жизнь, которая осуществима, — в этом есть своя свобода. Возможно, только в этом она и есть. Подобный дом был вполне осуществим. Ханна вполне могла полюбить такую жизнь, ее надежность, покой собственных детей. Чарльз Сеймур уже после того, как сбежал, прислал ей письмо, где благодарил за их разговор во время сбора ягод. Ведь это она напомнила ему, что следует быть мужественным. Наставила на путь истинный. Он так ничего и не понял. И удрал. Прочтя письмо, она сразу же его сожгла и потом плакала в одиночестве.
Отрезав вилкой треугольничек пирога, она отправила его в рот.
Абигайль подросла. Она точно знала, ведь теперь, когда она взбегала по лестнице, ее глаза были вровень с круто взмывавшими вверх перилами. А еще она теперь дотягивалась до кое-каких полок в кладовой, и кухарке даже пришлось переставить повыше изюм. Кроме того, за столом ей стало видно не только столешницу, но и лица родителей — напряженные, озабоченные, с безжизненными, невидящими глазами.
Она подбежала к отцу и положила руку ему на колено. Он взглянул на нее мутными кроличьими глазами и сказал: «Не сейчас, дочка». Абигайль склонила головку, чуть откинулась и игриво взглянула на него из-под бровей. Это был верный способ умаслить родителей, да и вообще кого угодно, и вызвать у взрослых улыбку. Но сейчас у нее ничего не вышло. Тогда она пододвинулась поближе, чтобы ухватить его за ухо, но он сердито встряхнул головой, словно норовистый жеребец: «Дочка, не приставай».
Когда в комнату вошла мать, отец совсем утонул в кресле и кашлянул. Абигайль ясно видела, да и трудно было не заметить, что он изображает, будто болен сильнее, чем на самом деле, лишь бы добиться участия матери. И в самом деле, Элиза остановилась около него и погладила по широченной куртке, закрывавшей его спину. Он снова кашлянул. Абигайль тоже готова была выказать ему участие, но чувствовала, что сейчас она ему не нужна. Ему нужна была мамочка. Вид у Элизы тоже был не слишком радостный, и Абигайль, обогнув отца, подошла к ней и ласково прижалась к юбке. Ее нежность была вознаграждена: мать опустила руку ей на плечо. Абигайль всегда старалась утешить ближнего, сделать окружающих хоть немного счастливее, чему и посвятила всю свою оставшуюся жизнь. Она преданно жила при матери еще долго после болезни отца, которая, пусть он поначалу и преувеличивал ее тяжесть, все-таки имела место и вскоре свела его в могилу. Потом место матери занял муж, который никогда не был с ней добр и ласков настолько, насколько мог бы, потому что у него просто не было в этом нужды.
— Боюсь, больше нам отдать нечего, — сказала мать отцу.
Отец кашлянул с крепко сжатыми губами, потом сказал:
— Они оставят нас без гроша. Долгие годы работы, все до последней спички — все достанется этим Теннисонам.
Вошел Фултон и с неприкрытым отвращением уставился на повернувшиеся ему навстречу унылые лица родителей. Ничего не сказав, он вышел и хлопнул дверью.
Зашелестели листья, повеяло выпивкой. Кто-то от нечего делать тискал в руках гармонику, нет бы сыграл, а то лишь извлекал из нее время от времени отдельные тихие звуки. На костре пузырилась похлебка из заячьего мяса. А напротив девушки проворно вырезали короткими ножами прищепки на продажу, словно яблоки чистили.
Юдифь рассказывала ему о двоих недостающих.
— Назвал нас гнусным племенем и что гнать нас надо изо всякого ци-ви-ли-зованного государства. Его это слова, так он мне и сказал. И что стереть нас надо с лица земли. Стереть, да.
— А сам священник.
— Христианин.
— Ну, или прикидывается, — сказал Джон.
— Вот-вот. Прикидывается. Еще месяц-другой назад это была общая земля, и что бы она ни родила, что бы ни вскормила, — все было общее, как воздух божий. А теперь тут эта железная дорога, а парней наших в тюрьму. И ведь никак не узнаешь, вот разве из табличек, а они читать-то не умеют, неграмотные. А детки без отцов остались.
— И когда их выпустят?
Она покачала головой, как если бы никогда, потом сказала:
— Через год или два. А может, раньше, так я думаю.
— И вы теперь отсюда уходите.
— Мы лес любим, в лесу еды много. Но нас стали слишком уж часто тревожить по ночам, в кибитки лезут, а собаки наши с ума сходят. Поедем пока в Кент на ярмарку. Нам и самим туда охота, по правде сказать. Там все наши собираются.
— Развлекаться, стало быть, на ярмарку.
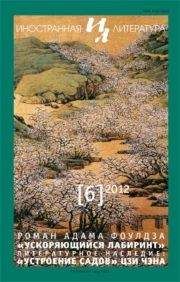

![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)