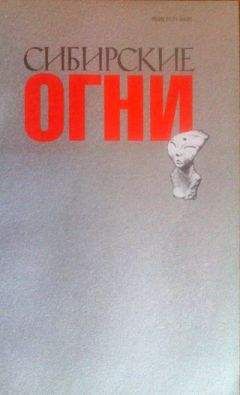Это и развязало мне руки: не я же первый целоваться начал! Крепко обнял Ксюшу, прижал ее к себе, гибкую, щупленькую, забормотал, целуя пока в шею:
— Хорошо все-таки, что я приехал… А я ведь не хотел, с драматургией решил завязывать…
Ксюша вдруг смеяться начала. Прямо-таки заливается!
Я почувствовал себя уязвленным.
— Ты чего, а?.. Опьянела?
— Ага, опьянела! Ух, как здорово!.. И усы у тебя щекотные!.. А чего это ты, Костя, с драматургией так круто? Она, конечно, девка строптивая, не каждому дается!.. — и вновь залилась смехом Ксюша.
А мне к месту вспомнилось: «На ложе страсти смех всегда помеха: губитель он любовного успеха». Это, понятно, не Овидий — далеко моим блеклым строчкам до блистательных назоновых: труба пониже и дым пожиже!.. — но истина, видать, и в них есть, ведь после смеха Ксюша вдруг предложила:
— А пойдем Сашку Аристова проверим!.. Дрыхнет, наверно, сурок!
Я сделал вид, что не услышал, протянул дорожку быстрых и жарких поцелуев к маленькому розовому уху Ксюши, но она отстранилась.
— Ну, погоди, Костя, погоди!.. Мне Сашке надо два слова… Надо, понимаешь?..
— Спит ведь человек.
— Пусть! Разбудим! У него бутылка токайского в заначке…
Был бы я трезв и по-настоящему силой воли обладал, никуда бы мы, конечно, не пошли…
Саша Аристов отворил нам дверь в черном атласном халате с кистями, в распахе которого непорочно белела майка. Не удивился вовсе. По крайней мере, в его глубоких добрых глазах изумление не промелькнуло. Зато мы с Ксюшей бурно удивились, что он еще не спит.
— Мысли пошли… — объяснил Саша. — Записываю…
— Классик ты наш! Солнце русской словесности! — рассмеялась Ксюша, забираясь с ногами на кровать. — Ветеран умственного труда!
— Странный какой-то визит… — пробормотал Саша, доставая из тумбочки вино. — Без бутылки, как говорят в массах, не понять… Только у меня всего два стакана…
— А я из горлышка буду! — еще звонче засмеялась Ксюша, потом вдруг нахмурилась. — И вовсе пить не стану с тобой, ни капельки!.. Пойдем, Костя, — она вскочила с кровати и потянула меня за руку. — Скука тут смертная!
— Ты чего?.. Нельзя же так… — залопотал я.
— Ну и оставайся!.. Я пойду! — она направилась к двери.
— Прости, Саша, сам понимаешь… — неловко похлопал я его по плечу, ровным счетом ничего не понимая. Спиной видел и слышал, как теребит Саша мягкую кучерявую бородку, бормоча: «Странный какой-то визит…»
Свет включать в своем номере Ксюша не стала, щелкнула только выключателем в душевой.
— Ты, Костя, уже купался — теперь я буду. Я быстро!.. Отвернись.
Раздевалась она просто молниеносно — вот уже и зашлепала босыми ногами в душевую.
— Ой-ой! — взвизгнула от холодной воды.
Дверь в душевой она не закрыла, льющийся оттуда свет вырвал из тьмы для меня, обернувшегося, брошенные в кресло брюки, свитер, колготки, белые плавки и маленький кружевной бюстгальтер. Я присел на кровать, любуясь этим натюрмортом. (О, где ты, художник, способный передать волнующую прелесть этих небрежно брошенных, но так удачно расположившихся женских вещей!)
Ксюша фыркала под душем и бодренько поскуливала без слов что-то из битловского репертуара.
Я ухмыльнулся, потянулся самодовольно и стал раздеваться: а чего время-то терять?..
Чуть погодя в дверь кто-то вкрадчиво постучал. Ксюша из-за шума водяных струй стука не слышала. А я решил отмолчаться: время позднее, добрые люди спят давно. Еще, помнится, подумал: «Неужто молодой «Гонкур» до сих пор шарахается?»
Я молчал, а стучавший, услышав, видно, шум льющейся воды и Ксюшино пение, осторожно отворил дверь. «Да как же я, болван, забыл запереть ее на ключ!» И по-хозяйски вошел в номер. «Что это за наглец!»
Сашу Аристова я встретил в одних трусах, едва успел прикрыть дверь душевой, где нагая Ксюша чирикала под тугими отвесными струями.
Момент был далеко не из приятных.
Мы с Сашей молча глядели друг на друга. Он был в том же барском халате, в руке держал бутылку токайского.
— Поздно уже, — выдавил я наконец. — Оставь на завтра.
— Да… вижу… поздно… — отозвался Саша.
Ксюша в этот момент выключила душ.
— Ладно. Спокойной ночи! — повернулся Саша и вышел.
Я запер за ним дверь на ключ, бормоча, как и он недавно: «Странный какой-то визит…»
И тут из душевой выскочила Ксюша, совершенно голая, даже полотенцем забыла прикрыться.
— Это Сашка был, Сашка? — затормошила меня, мокрая и взволнованная.
Я молча глядел на нее. Молча и восторженно.
— Это был Сашка, да?!
Я кивнул, не в силах слова произнести.
Ненавистью сверкнули глаза Ксюши, ненавистью ко мне. Теперь она уже была совсем не пьяна.
— А ты-то, ты!.. Тебя кто просил раздеваться?.. Вот гад: пьеску уже любовную сочинил, как мы с тобой… Да?.. Только уж куда тебе! Что ты вообще в любви понимаешь?..
Выкрикивая это, Ксюша лихорадочно одевалась, натягивала джинсы, для ускорения пропустив не только колготки, но и плавки. Голыми плечами нырнула в грубовязаный свитерок. Оттолкнув меня, бросилась к закрытой двери, ударилась в нее, как птаха в стекло, потом, поворачивая ключ, обернулась ко мне в гневе:
— Это ведь любовь, понимаешь, любовь!.. Да где уж тебе понять? Нечем понимать тебе!
И выскочила, оставив дверь нараспашку.
Глупей и печальней картины не придумать: почти сорокалетний, уже седой мужик, только что с торжеством предвкушавший плотские радости, стоит в одних трусах посреди чужого темного номера в чужом темном городе, а дверь распахнута убежавшей от него женщиной…
О, где ты, художник, способный…
— Мерзко-то как, мерзко!.. — скрипел я зубами, одеваясь.
Ксюшин номер закрыл ключом. Но не в двери же его оставлять, понес ключ на этаж ниже, в Сашин номер.
Еще на подходе к нему услыхал в тиши замершей на ночь гостиницы плачущий голос Ксюши:
— Ну, подумай, какой Костя? Кто он, Костя, зачем?.. Да кто он вообще такой?.. Нету его, нету!..
Быть может, как раз за тем, чтобы доказать свое существование, я не повернул назад, а постучал в дверь. Молча отдал ключ тоже молчащему Саше Аристову.
Когда, возвращаясь, проходил мимо заспанной дежурной по этажу, та злобно зашипела на меня:
— Ну, люди вы или кто?.. Напились и мотаются туда-сюда, места не знают!.. Люди вы или кто?!
— Я никто! — ответил я, не останавливаясь. — Меня нету.
А действительно, кто он такой, этот Костя? Да нету его, нету!.. Нету?.. Так почему же так болит? Почему так стыдно, так мерзко?..
Я — не знаю любви?
Мне даже понимать ее нечем?
Страшно, если так…
Ночью мело, сильно мело — быть может, последняя предвесенняя метель.
Так мне было паскудно — уснуть не мог.
Думал о том, что я один в этом чужом городе.
Что метет кругом, все смешалось…
Что завтра непременно в пух и прах разобьют мою пьесу, выспятся на ней, вытрут об нее и об меня ноги…
Что тяжело мне будет завтра встретить Ксюшу…
Что я плохой, ужасно скверный…
Что диковинным образом уживаются во мне тяга к чистому, возвышенному, этакий романтический идеализм и жалкая мерзость каких-то поступков и помыслов…
Что тьма кругом…
Но есть ведь свет, есть, был, по крайней мере!..
Как тошно, что я здесь один…
Ну, и где они теперь, два моих «дополнительных» Я?.. Где предбытники мои — Овидий и Лот?.. Ку-ку!.. Никого нет рядом — один я здесь…
Здесь? Только ли?.. Разобраться — так у меня близких людей почти не осталось, и настоящих друзей почти нет. Есть приятели, собутыльники, единомышленники, собратья по перу, со-перники… Настоящий друг только Елена, так ведь и ее уже предавал, и чуть было вновь не предал недавно. Жена — друг. И все…
Нет, все-таки один настоящий друг у меня, слава Богу, есть: равно обделенный везеньем и плотью Вовка Антух, тридцатитрехлетний холостяк, регулярно уходящий в беспросветные запои. Невелик он ростом, сух, как прокаленная солнцем прибрежная коряжинка. И лицом-то в красавцы не вышел, зубы передние вдобавок в какой-то драке выбиты, а на протезы денег нет… При всем том, много, возвышенно, страстно и печально пишет в стихах о любви. А знает ли он ее? По крайней мере, его женщины я не знаю. Быть может, от одиночества как раз он и потянулся ко мне, считает меня явно не тем, кто я есть, видит во мне лишь одно из трех Я — лучшее… Потому, значит, и его в полном смысле другом считать не могу.
И все же если бы в моем мрачном номере в ту ночь каким-то чудом появился Вовка — это было бы спасение!.. Так ведь он далеко, за добрую (нет, злую!) тысячу заметеленных верст.
От горечи хмель мой совершенно прошел. В тоске, стыдобе и безысходности достал я из сумки мятые листки — едва начатое перед самым отъездом стихотворение, другу посвященное: «Ах, как метет сегодня ночью!/ Меня одно теперь спасет, / Что Вовка Антух в шубе волчьей/ Придет и водку принесет…» Сам пошел по листку карандаш…