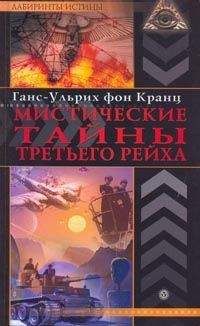Какая все же чужая и страшная его родина — Лифляндия…
Спать он улегся, лишь когда сосны начали вырисовываться на покрасневшем от зари небе и глаза уже закрывались сами собой.
Когда Курт проснулся, сквозь верхушки деревьев в окошко пробивалось солнце, щебет птиц за окном слышался громче, нежели вчера. Корчмарь, принеся завтрак, остался у стола, улыбаясь узенькими глазками и всеми жилками и морщинками вокруг них. Ну, конечно, несмотря на засов, он все же вошел сюда.
Словно угадав тайные мысли лежащего, тот сказал:
— С краю засова надо вставлять затычку, тогда с той стороны нельзя открыть. Пан рыцарь об этом не знал.
Курту от этих слов стало не по себе.
— Да, не знал. Только зачем же затычка, если без тебя сюда все равно никто не войдет.
Поляк показал сквозь усы обломки желтых зубов.
— Никто, истинно никто. У меня спать надежно, как у Христа за пазухой. Надеюсь, пан рыцарь хорошо выспался. Ополночь, правда, приехали из-за леса с другого конца волости два барщинника. Но я им наказал не шуметь и не беспокоить пана рыцаря. Только у одного лошадь стала грызть ясли и сбросила их наземь. Лошади у них тощие. Сами как падаль и скотину морят. Вконец распустил их господин барон Геттлинг.
Казалось, его особенно интересуют пистолеты. Он взял их и повертел в руках.
— Такие, поди, стоят добрую сотню талеров за штуку. Пан рыцарь, верно, хороший стрелок. — Но затем, неизвестно почему, видимо, в какой-то связи с пистолетами, подошел поближе и тихо произнес: — Шведский офицер и с ним восемь солдат проскакали утром по большаку.
Сено на скамье неожиданно зашуршало. Может быть, потому, что Курт резко потянулся, протяжно зевнув.
— Из Риги?
— Нет, из Кокенгузена на Ригу. Офицер и восемь солдат. Я его знаю: весной ночевал у меня два раза.
— Из тех землемеров?
— Вроде того… да нет, господа, что из комиссии, без мундиров, а этот военный. Очень уж глазастый господин. Глядит — будто шилом тебя колет. Сдается, только глянет на эти самые мешки пана рыцаря и сразу скажет, что в них.
Еще ближе придвинулся, еще более понизил голос.
— Оба раза выспрашивал меня: здесь мужичье пьет — не прислушивался ли я, о чем они говорят. «О чем же им говорить, отвечаю, пан офицер сам знает речи холопов. Жалуются на свои напасти и господ костят». — «А господ шведов тоже?» Меня голыми руками не возьмешь: что я не знаю, как ему отвечать?! «Господ шведов!» — вскрикиваю, вроде с испугом. «Что вы, господин офицер! Шведские господа для них то же, что сам господь бог, спаситель наш. Только своих собственных костят, немцев да поляков. Эти с них шкуру дерут». — «Ты, поляк, хитрый, как черт», — сказал он, вроде рассердился, а я уж вижу, что улыбается и бороду гладит: «А ну, польская вошь, налей-ка мне кружку пива, только чтобы похолоднее да чтобы пены не больше трети!» Ну, так же и в другой раз. А мне ли не уметь! Как кружка наполнится, я ладонью сверху хлоп — пена через край.
Лежащий равнодушно покачивал опушенной с лавки босой ногой.
— А тот прошлый раз… что он?..
— А в прошлый раз было совсем страшное дело. Я даже и не знаю, может, пану рыцарю и рассказывать не след.
Корчмарь прошлепал по комнате кругом, — наверное проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь, а возможно, и затем, чтобы встать в ногах и смотреть прямо в лицо лежащего.
— В тот раз был такой разговор: не слыхал ли я, что лифляндские бароны затевают заговор против шведских властей. Я прикидываюсь дураком и удивляюсь: «А зачем им бунтовать? Полная воля. Как сыр в масле катаются». Ну, масла-то становится меньше, шведские власти у них кусок хлеба и тот урезают. Крестьянам дают законы, права, суды и школы. Все устраивают, как в Швеции. А помещики упрямые, что твои козлы. Чтобы уступить — ни-ни, ни на шаг, ни на вершок. Потому-то шведские власти у этих строптивых имения отбирают. Если только бумагами не могут доказать свои права — вон из имения, а на их место — арендатора. Не слыхал ли я, сколько лифляндских имений казна забрала в свои владенья? Так… краем уха кое-что слышал, отвечаю, от этих самых наших барщинников, что сюда наезжают. Да и не так давно тот же Шульц из Лауберна здесь на восемнадцати возах переправлялся в Митаву. Вот он был один из этих «козлов». А не слыхал ли я о таком, что других на бунт подговаривает? С поляками и русскими дружбу водит, против шведов? Помощников да гонцов у того полным-полно, особенно тех, что из польской Курляндии{8}. Моя корчма стоит аккурат на самой границе — не может быть, чтобы у меня не останавливался кто-нибудь из этих предателей. «Откуда же мне знать, пан рыцарь, отвечаю. Осенью, когда ночи темные да дороги развезет, так у меня в иную ночь стодола полна и в корчме человек двадцать спят. Разве я у кого спрашиваю, кто он да откуда? Мое дело налить пива в кружки да присмотреть, чтобы не уехал кто, не заплатив. Что я понимаю в господских раздорах?» — «Ну, гляди ты у меня, рвань католическая!» — И грозит мне пальцем… А на том пальце у него перстень с красным глазом… вот этакий, с мой ноготь. Ей-ей, не вру! «Ну, говорит он, налей мне пива, да только того, холодного!»
Его собственные глаза, точно шилья, впились в лицо лежащего. Тот вздохнул… Нет, только сдул муху, нахально норовившую сесть на губы.
— Как же он назвал того… Ну, того, который помещиков мутит?
Поляк почесал за ухом и отвернулся.
— Пусть пан рыцарь убьет меня, и то не вспомню. Я и тогда никак не мог его имя выговорить — такая совсем неслыханная немецкая фамилия. С поляками и русскими против шведов… Против шведов! Пусть попробует кто-нибудь подняться сейчас против шведов, увидит, что ему будет. Голова с плеч!.. вот что.
Корчмарь еще долго топтался, поглядывая сквозь щелочки глаз на Курта. Но тот, видно, снова задремал. И только когда поляк дошлепал до самых дверей, шевельнулся. Снова лениво и равнодушно начал потягиваться.
— Так говоришь… барон Геттлинг?
Корчмарь мгновенно обернулся, словно отброшенный пружиной.
— Это наш господин барон, да. Имение тоже на берегу Дюны. Ведь пан рыцарь и сам его знает: танненгофский кучер сказывал, что пан рыцарь в родстве с господином Геттлингом.
— В довольно дальнем. А ты не знаешь… барон Геттлинг дома?
— Дома, дома, где же ему еще быть. Наш господин всегда дома. Из своих покоев не выходит. Крестьяне четыре года его не видали. Служанки сказывают: болен. А кучер говорит: пустяки — стакан грогу, как и всегда, выпивает…
Спохватившись, словно сообразив, что заболтался, корчмарь прикрыл рот рукой и деланно-виновато улыбнулся.
— У меня ведь язык, что трепало. Какое дело корчмарю! Корчмарь — тот же холоп при имении, корчмарь ничего не должен знать. А что, пан рыцарь не наведается туда в гости? Целые сутки проторчать в этой дыре не бог весть как приятно.
«Еще как неприятно», — подумал Курт, но ничего не сказал. Долго просидел так, свесив ноги со скамьи, уткнувшись локтями в колени, подперев голову ладонями. Днем здесь, конечно, не так мрачно, даже стыдно стало при воспоминании о вчерашних страхах. И все же пережить еще одну такую ночь… Курт поежился, словно кто-то холодной рукой провел по голой спине.
Седые усы поляка вновь просунулись в дверную щель.
— Осмелюсь попросить пана рыцаря не мешкать с завтраком. Молоко вкуснее, когда оно еще парное. И чтоб лепешки не остыли — жена сегодня утром напекла. Сухих еловых дров я сам нарубил. Жена у меня большая мастерица, господа всегда хвалят ее стряпню.
Но Курт думал не о еде, а о чем-то ином.
— Что, здесь все совы так противно кричат?
Поляк осклабился.
— Разве напугала пана рыцаря? Это только в первую ночь так. Я привык, даже и не слышу. Нет, не все — только эта. У нее где-то весной гнездо разорили, ну и поселилась тут. Напугана, потому так и кричит. Я знаю, где у нее гнездо, да только спина уж закостенела, не могу забраться. Стерва, трех цыплят у меня слопала. У пана рыцаря такие дивные пистолеты — не попробует ли ее сбить? Она вон там сидит. Днем слепая — можно совсем близко подойти.
Курт не ответил. Надоел ему этот корчмарь со своей трескотней. Хитер, что сам нечистый, и обо всем знает куда больше, чем говорит. Все время возле чего-то вокруг да около ходит.
Молоко было еще теплое, с необычайным привкусом лесных трав. Теплой была и ячменная лепешка с творогом — кисловатая, колючая и терпкая после пшеничного хлеба, к которому Курт привык в Германии. Сладко пах липовый мед в посудине из бересты, только утонувшая в нем пчела отбивала вкус. Полковриги ржаного хлеба, черного и колючего от отрубей. Масло в туес корчмарка, может, руками намяла… Поев немного, Курт поднялся.
С корчмарем ему больше не хотелось встречаться. Прямо через ворота стодолы Курт вышел наружу. Но поляк, наверное, услышал, как он спускался по ступенькам, и, улыбаясь, уже стоял у дверей, указывая рукой.