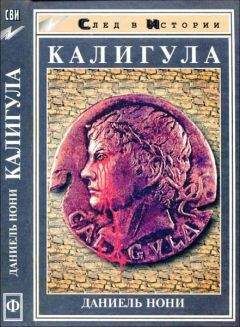Я подошел к ней, взял за руку и сказал:
— Пойдем.
Хотел добавить: «Ляжем», — но не добавил. Та самая робость мешала мне говорить открыто. Но я и тогда почувствовал, и сейчас уверен, что она поняла все и что она ждала и была готова. Хотя внешне все выглядело вполне невинно, вполне согласно с установлениями, потому что сколько раз я вот так же подходил к ней — и к другим сестрам: у меня было еще две сестры — брал за руку и говорил: «Пойдем»; И мы шли в рощу, и бегали там как угорелые, и кричали, и бегали, и гонялись друг за другом, и ловили друг друга, и падали вместе на землю, и лежали рядом, глядя в небо в полном изнеможении.
Я взял ее за руку, и мы пошли, и это уже было первое отличие от обычного, потому что всегда мы бежали к роще — или я за ней, или она за мной, — но никогда не шли, тем более таким медленным шагом. И еще: только руки наши соприкасались, а бедра и плечи не соприкасались, потому что страшились соприкосновения. Я подбадривал себя: «Гай, чего ты боишься, ты хозяин жизни и, может быть, будущий император». Так я говорил себе, но в словах отчего-то не оказывалось никакого действенного смысла, и выходило, что это совершенно пустые слова. И про «хозяина жизни», и про «императора». Будто это какие-то пустые мечты, а не то, что обязательно должно совершиться. Или, точнее, то, что уже было на самом деле: пусть об этом еще мало кто знал или не знал никто.
Мы прошли в рощу, в самую ее глубину, спустились на дно неглубокого оврага. Не я вел ее, и не она меня, но мы шли словно бы вместе и одновременно каждый сам по себе. Остановились. И тут оказалось, что мы не знаем, что делать дальше. И тогда я сказал — и это случилось непроизвольно:
— Ляжем.
Мы легли. Оказалось, что только и нужно было лечь. То есть именно такое положение тел надо было принять, чтобы прошла всякая нерешительность и робость, и все стало совершаться само собой, и я даже перестал ощущать, что делаю что-либо сам, но как будто бы я сплю, а сон властвует надо мной и живет за меня. Я словно бы и не знал, что нужно делать, и словно бы мои руки никогда до этого и мое тело никогда до этого не прикасались к женской горячей плоти. Да, никогда не трогали и никогда не прикасались.
Я не знаю, как решился прикоснуться к ее соску губами, и почему я это сделал: он показался мне твердым и холодным. А губы ее, когда я к ним прикоснулся, были мягкими, горячими. И влажными. Нет, скорее даже мокрыми. Она часто дышала, и запах ее дыхания был какой-то особенный. Не сладкое, не благоуханное дыхание, о котором пишут поэты, а какое-то нутряное. Запах плоти. И еще — запах смерти. Не разложения, совсем нет, но какой-то холодный без вкуса запах. И это в горячем дыхании. Будто бы отдельная, не смешивающаяся ледяная струя в общем горячем потоке…
Она вскрикнула, и все ее тело сжала судорога, и дыхание ее прервалось, и она — это я сейчас хорошо понимаю, а тогда только сжался весь внутри, и дыхание прервалось, как и у нее, — она умерла. На одно мгновение, на долю мгновения, но это был не образ смерти, а сама смерть. И не ее, не ее только, но и моя, принадлежащая только мне.
Лицо ее было так близко от моих глаз, что расплывалось пятном без черт, и я не мог видеть, улыбается она или плачет, но и не хотел этого видеть. Тело, которое я держал в своих руках, может быть, меньше всего было женским телом, и тайна, которую я ощутил — пусть еще смутно, пусть еще только едва, — совсем не была обычной тайной женщины. И я сказал:
— Я хочу сделать тебя счастливой.
Я не уверен, что произнес это вслух, но какое это могло иметь значение, ведь я говорил это себе, для себя, потому что я больше всего люблю себя и лишь сам для себя могу быть интересен. Даже когда сам у себя вызываю отвращение, все равно интерес к себе и любовь к себе не делаются меньше, но, возможно, еще и возрастают.
Я так и лежал на ней и все не мог заставить себя подняться. Тело затекло, и сырость со дна оврага проникала в него. Но как было подняться? В слиянии тел нет стыда, но в их разъединении, пусть и временном, он есть. Столь гармоничное, столь естественное состояние слитности должно смениться каким-то некрасивым и бессмысленным разъединением. Как если бы одна нога пошла отдельно от другой, а руки, цепляясь пальцами за пожухлую траву, тащили за собой безногий торс, а голова просто катилась по желобу дна оврага, пока не ударилась бы о полусгнивший ствол поваленной березы. Ударилась бы, вскрикнула от боли, не в силах ни увернуться, ни заслониться рукой, но только закрыть глаза. Закрыть и увидеть белую вспышку боли посреди кромешной темноты. Такую же холодную, как струя смерти среди горячего дыхания страсти…
Кажется, опять нагородил неизвестно что. Но что за беда? И разве не больше правды в том, что время нашей страсти — вечность, чем в том, что за это время солнце прошло всего две верхушки деревьев над нашими головами? Или, лучше, не вечность, а смерть, что совершенно одно и то же.
Впрочем, мы поднялись. Тем более что она сказала:
— Встань, мне больно.
Не так уж и измята была ее туника, только два пятна от земли около левого плеча. Пятна эти не были страшны — хоть бы она вся извалялась в грязи. Имело значение маленькое красное пятнышко чуть пониже бедер, между ними, по самому центру. Когда она встала, отряхиваясь, я увидел его. Оно было как пятно огня, знак еще не вырвавшегося пламени. Невырвавшегося, но вот-вот готового вырваться. И спалить всю одежду дотла, и оставить мою сестру Друзиллу, мою возлюбленную Друзиллу, оставить мою Друзиллу голой. Сначала передо мной, а потом перед всеми. Не знаю, хотел я, чтобы перед всеми или нет, но ей я ничего не сказал. И когда она шла на два шага впереди меня и солнце светило ей в лицо, то одежды на ней не было, и мне хотелось дотронуться рукой до ее гладкого бедра, но не было сил ускорить шаг и догнать.
Потом я потерял ее среди бьющего в глаза солнечного света; она потерялась в нем, как в тумане. Я не искал ее. Тогда еще я не любил. То есть нет, любовь тут ни при чем, но она еще не была для меня… не была еще для меня мной. Я ушел в самый дальний угол нашего сада, сел, уткнув лицо в колени, и просидел так до самого вечера, а возможно, что и до вечера следующего дня, потому что я слышал встревоженные голоса искавших меня домочадцев. Но я не отзывался и на их вопросы, когда я все же вышел к ним, только пожал плечами. Друзиллы среди них не было.
Нет, все было не так, как я только что описал, а просто я давно хотел Друзиллу. Две другие мои сестры, которые позже умерли, Акта и Клодия, были еще совсем детьми. Конечно, не их возраст останавливал меня, но просто ни женского, ни даже девичьего в них не было ничего. Окажись они мальчиками, тогда другое дело. Мальчик — это вид человека, а девочка — еще не человек. Не может именоваться человеком тот, кто не вызывает вожделения. Любовь, смысл любви — все это чушь, все это из породы установлений, чтобы только как-нибудь прикрыть и облагородить вожделение. Но как его ни прикрывай, оно всегда остается голым. Его можно прикрыть словами, как ширмой, но нельзя одеть.
Так вот, в один прекрасный день Друзилла из девочки превратилась в человека, и мое вожделение обратилось на нее. Я не долго раздумывал, может, только дня три или четыре, пока по-настоящему понял, чего хочу от нее.
Она не стояла у колонны, как я говорил, спиной ко мне, она была в роще. Я искал ее и нашел на дне неглубокого оврага, там, где лежал толстый ствол поваленной березы. Она и сидела на этом стволе. Сидела, перебирая пальцами зеленые листки: то надрывала их, то разглаживала. Некоторое время я смотрел на нее. Намеренно и, конечно, не от робости или смущения. Просто я ощущал, как вожделение разливается по всему моему телу, заполняет и переполняет его. И лишь только наступил миг, когда я уже не мог противиться ему, я бросился к ней сверху вниз. Расстояние между нами было всего в три прыжка, три мгновения, почти неподвижное время, но она успела вскочить и быстро-быстро стала карабкаться вверх по склону оврага. Она в какой-то момент напомнила мне ящерицу. Не как ящерица бежала она, но именно была ящерицей. И когда я все-таки ухватил ее за ноги, уже у самой вершины, мне показалось, что это не ноги, а хвост, и она сбросит его, и он останется у меня в руках. Вместо нее.
Может, я тогда так чувствовал, а может, это все уже после представилось мне — какая разница? Но то, что она ящерица, в этом я убедился, лишь только ухватил ее покрепче и стянул вниз, на дно: она извивалась в моих руках с какою-то нечеловеческой быстротой и гибкостью. И все молча, без единого горлового звука. Меньше всего мне хотелось рвать на ней одежду. Я и не рвал бы, веди она себя спокойно. Мне непонятно, почему женщины, когда их берут силой, так упорно сопротивляются. Бесплодная трата энергии, и никакого смысла. Что, собственно, такое они хранят? Они защищаются так, словно защищают нечто, на охрану чего их поставили. Так часовой, охраняющий спальню императора, бросается на заговорщиков, которые, обнажив мечи, пытаются туда ворваться. Не знаю, хорош ли пример, но думаю, что, во всяком случае, верен. Но солдат падает, пораженный клинками заговорщиков, и те врываются внутрь, скользя на ступенях, окрашенных его кровью.