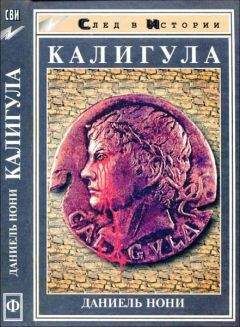Ее сопротивление было яростным, хотя и беззвучным. Но наконец часовой пал, обливаясь кровью, и император, только успевший приподняться на постели, был поражен множеством яростных ударов. Его крик был единственным и последним. И ее, Друзиллы, крик тоже был единственным и последним. И хотя я еще некоторое время толкал ее тело резкими и чувствительными толчками, она лежала как мертвая. Я перестал толкать, скатился с нее и лег рядом. Вожделение прошло, но явились усталость и легкость одновременно и еще что-то такое, чего нельзя передать словами, но что-то похожее на радость обладания. Внезапно завоеванное богатство. Может быть, такое огромное, что позволит властвовать над всем миром: над всей землей, над всеми растениями, над всеми животными, над всеми людьми. Что из того, спросите вы. А ничего, потому что смысл обладания в обладании, и больше ни в чем. Может быть, еще в радости обладания. Хотя она кратковременна, и если не уходит совсем, то превращается в тоску. В тоску по этой же радости.
Друзилла тоже не поднималась, лежала неподвижно и беззвучно, как мертвая. Я тронул ее руку, она была как лед. Но не как у мертвой, а как у живой. Потом она медленно поднялась. Туника была измята и испачкана и разорвана у правого плеча; она поддерживала ее рукой. Там, где бедра, впереди, было красное пятно, большое и неровное, как раздавленный красный цветок. Я сказал ей:
— Смотри.
Она нагнула голову, но лицо ее осталось равнодушным. Отвернулась и пошла наверх. Не карабкалась, как тогда, когда я настигал ее, но шла прямая, сильная, не спотыкаясь, как по ровному. Если бы у меня оставались силы, я бы догнал ее снова, но сил не было, и радость обладания уже переродилась в тоску: к чему обладать всем миром? Да и нет никакого мира, а есть только кусочек тверди, на котором лежит твое тело, и кусочек неба, который может охватить твой неподвижный, застывший и в общем-то затуманенный взгляд. И даже этот кусочек неба перестает существовать, потому что глаза закрываются сами собой, а в темноте под веками нет ни вещественности, ни смысла — это не земля, не небо, не мир, а лишь я сам. Без земли, без неба, без мира, которым так хотелось обладать и которого теперь нет вовсе. И не было никогда. Ничего не было. И сам я… Но не было и меня.
Тоска. Моя неизлечимая болезнь. И вожделение, и удовлетворение — только временные лекарства. И чем чаще принимаешь их и чем в больших дозах, тем слабее действие.
Когда я встал, было уже темно — открыв глаза, я остался в темноте самого себя. С трудом поднялся по склону, цепляясь за траву. Медленно, спотыкаясь почти на каждом шагу, пошел к дому. Только однажды мелькнул страх, что наша бабка Антония[7] могла увидеть Друзиллу, когда та возвращалась. А бабку обмануть невозможно. Но страх только мелькнул. Я вяло сказал себе: «Гай, ты уже император». Но можно было и не говорить.
Потом, уже засыпая, я подумал, что ведь, в сущности, не видел ее тела.
Порой я сомневаюсь, нужна ли мне власть и зачем я столько сил положил на то, чтобы иметь ее. «Зачем нужна» не в том смысле, что не нужна, а в том — зачем? Только ли затем, чтобы освободить страсти, чтобы они могли реализоваться как угодно и где угодно. Или еще зачем-то? Нет, не благо народа — пусть это и трижды благородная цель. Честолюбие? Все поклоняются мне, славословят меня, а я — самый благородный, самый умный, выше и лучше всех. Поэты слагают стихи, где это написано черным по белому. И отчего бы мне не поверить им. И я верил, особенно тогда, когда был пьян. Но в часы трезвости — в последние годы это случалось не так уж часто, если иметь в виду полную и абсолютную трезвость, — я все понимал прекрасно. Не мне, то есть не лично мне пели они славу, но страху перед моей властью. И если вообще опустить страх, а представить, что они не притворяются, но думают именно так, как поют, то все равно, самого меня это мало касалось, но слава относилась к моим одеждам — материальным и нематериальным. Не к тому, каков есть император, а к тому, каким он должен быть — великим, мудрым, красивым… И так без конца. Люди воспринимают императора либо как тирана, либо как отца народа, справедливого и доброго правителя. Наибольшие славословия получает, конечно же, тиран, так что быть им или представляться им, если любишь славословия, предпочтительнее. А славословия любят все, вне зависимости от того, что они об этом говорят публично. И все — и те, кто как будто выше этого, — принимают славу как должное, оправдывая себя желанием народа, необходимостью поддержать авторитет правителя. Это установление — «благо народа» — может быть, наиболее твердокаменное и, наверное, сильнее всех других установлений. Оно оправдывает все, и нарушение других установлений в том числе.
Но довольно об этом. Теперь поговорим об астрологии. Звезды всегда манят человека. Пугают или радуют, но обязательно манят. И астрологи всегда будут в чести. И это независимо от того, пользуются ли они благорасположением власти или нет. Ведь там, где звезды, живут боги, там складываются наши судьбы, хотя я и не верю ни в то, ни в другое. Боги не позволяют многое, а я позволяю себе все. А значит, если они и есть, то не для меня. Доказательство, возможно, слабое, но ведь я и не ищу доказательств.
Так вот, несмотря на то что для меня нет богов и я презираю их ко мне отношение, а их возможный гнев еще больше, несмотря на это, звезды тоже манят меня, и всякие предсказания астрологов я выслушиваю почти завороженно.
Откуда появился Сулла[8], я вспомнить не могу. Может, он спустился ко мне из области звезд? Вряд ли, потому что такой же шарлатан, как и все остальные. То есть все остальные его собратья по шарлатанству, и… и все остальные вообще. Мне бы давно его казнить, и я с удивлением время от времени смотрю на него: «Как, ты еще жив?» Я ему часто говорил, что больше всего на свете хотел бы увидеть его мертвым, и не убиваю его только потому, что всегда хочу видеть его мертвым, и пусть он возблагодарит свои звезды за это мое «всегда». «Я благодарю их каждую минуту, Гай», — неизменно одно и то же отвечает он мне. Когда мы один на один, он всегда мне говорит просто «Гай», но никогда — «император». Когда мы не одни, то он не обращается ко мне и потому не называет никак. И я тоже в присутствии других не обращаюсь к нему с вопросами, чтобы при ответах ему не произносить «император». Получается, что я жалею его. Но это только так кажется, а на самом деле я боюсь, что и при других он скажет мне: «Гай». Не я дал ему право называть меня по имени, он сам взял себе его. Хотя я показываю всем своим видом, что чуть ли не ради шутки позволяю ему это.
Так вот, я не помню, откуда он взялся и когда. Мы были одного возраста, и когда Друзилла… Во всяком случае, его глаза всегда подсматривали за мной, а его голос, даже когда его не было рядом, произносил: «Гай». Что «Гай», я не знал, но он произносил его (или оно само произносилось во мне его голосом) как заклинание. Но это неправда, что я боялся его. Я его никогда не боялся. А его взгляд и его «Гай» — правда. Это как звезды, которые есть всегда и которые манят.
Я сам хотел, чтобы Сулла всегда был при мне. Но если бы я этого и не хотел… Я вспоминал о его присутствии и тогда, когда его не могло быть рядом. К примеру, тогда, когда я еще жил в доме Антонии, моей бабки. Он знал все и говорил мне, что знает все: всю мою жизнь и мою смерть.
— И о смерти знаешь? — говорил я ему, и все внутри меня холодно напрягалось от гнева.
— Да, Гай, и о смерти тоже.
— Но разве я когда-нибудь умру?
— Конечно, нет, Гай, ты бессмертен и умереть не можешь.
Так он отвечал мне, и в его глазах не было ни насмешки, ни лжи, ни великодушия. Он не лгал, во всяком случае, намеренно. И я знал это. И был благодарен ему. Конечно, бессмертие мое не было бесспорным бессмертием: императоры умирали и до меня. Но разве в том дело, что я император? Нет, дело тут в чем-то совсем другом. Я не знал в чем и думать не хотел, но чувствовал — бессмертен. Я, несущий в себе самую полную, самую чистую свободу, божественную… Я, издающий законы, не подчинен им, и никаким не подчинен установлениям, и себе самому тоже. Есть страсти, одни только страсти. Открой им себя до конца, перестань быть, превратись в страсти — и будешь вечен, как вечны и бессмертны они. И никакие установления не смогут умертвить их.
Любить самого себя. Нет, для бессмертия этого мало. Любить свои страсти. Нет, и этого недостаточно. Забыть о себе и жить одними только страстями. Нет. Забыть о себе и стать страстями. Не любить, но быть. Не быть даже, но единственно только проявляться. Нет привязанности, нет долга, а есть только… Впрочем, что-то такое все равно невозможно высказать, и любой смысл, выраженный в словах, все равно есть игра со смыслом. А я не об игре.
Не помню первый раз с Суллой и, может быть, не помню и второй. Помню, как он сказал мне:
— Пойдем, Гай.
И я послушно пошел за ним. Я так послушно пошел за ним, за своим ровесником, за мальчиком, в сущности, будто это был старый мудрец, возраст которого я почитал, а в мудрость верил неоспоримо. Я, который никогда ни во что не верил и никогда никого не почитал.