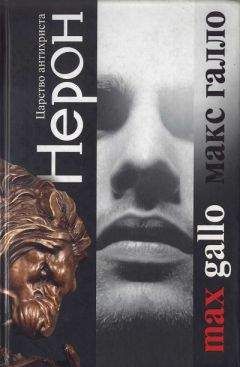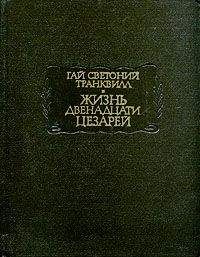И вдруг нахмурился.
— Какая судьба… И это потомок Августа и Цезаря! Может, ему лучше было бы умереть?
Смерть продолжала кружить над ребенком.
4
Но убить мальчика Калигула просто не успел.
Каждый раз, расспрашивая меня о сыне Агриппины, он обдумывал свой план.
Император снимал браслеты и кольца, отдавал рабу узорчатый плащ и, оставшись в шелковой тунике, расшитой золотой нитью, расхаживал вокруг меня, постукивая каблуками уличных ботинок или туфель на манер женских. Наклонившись ко мне, чтобы в очередной раз справиться о возрасте ребенка, он повторял:
— Четыре года, четыре года… Через десять лет ему понадобится мужская тога. Как быстро бежит время! Я знаю его мать: она захочет, чтобы он сел на трон. И будет плести заговоры, как прежде. Чтобы убить меня.
Калигула улыбался и поглаживал рукой губы.
— Четыре года, — размышлял он.
Потом, вроде бы забыв о ребенке, показывал мне дворец, который он построил для своего коня Инцитата.
Конюшня была из мрамора, водопойное корыто — из слоновой кости. Вокруг коня, покрытого красной попоной, суетились рабы.
— А не произвести ли мне Инцитата в консулы? — бормотал император.
Внезапно разгневавшись, он принимался обвинять сенаторов и трибунов в стремлении убить его и, подозвав охранников, нашептывал им несколько имен. Палачи уходили, сжимая мечи.
Сколько это могло продолжаться?
Калигула убивал всех, кто по крови или благоприобретенному родству имел отношение к семьям Цезаря и Августа. В их жилах текла кровь императоров, а значит, следовало перерезать им горло, чтобы выпустить эту кровь, превращавшую их в соперников. Сын Агриппины, четырехлетний малыш, прятавший от взрослых свои испуганные глаза, мог выпрямиться и метнуть ненавидящий взгляд. И снова потупиться, подобно маленькому зверьку, неосторожно покинувшему свою нору. Будучи по материнской линии потомком Августа, он был способен ощетиниться, показать зубы и когти.
Я говорил Сенеке:
— Ему всего четыре года, но он уже похож на Калигулу, на Агриппину. Или это кровь Цезаря делает людей хищниками с самого рождения?
Сдержанные ответы учителя были очень ценны для меня.
Я встречался с Сенекой, когда служил у Тиберия. Его гордая осанка, мужественное и решительное выражение лица, царственная манера говорить, сделавшая его лучшим оратором сената и знаменитым адвокатом, риторическое искусство философа-стоика, проповедующего мудрость и смирение перед высшей силой, покоряли. Он был старше на полтора десятка лет и считал меня близким родственником — у нас обоих были испанские корни. Как и мои предки, он родился в Кордове.
Мы неторопливо прохаживались по саду его римского поместья. Он слыл богатым, и действительно, вокруг цветочных клумб возилось множество рабов.
— Кровь у Цезаря такая же, как у всех, — заключил он. — Теплая и липкая. Я видел, как умирали, вскрыв себе вены, римские патриции. Их кровь была того же цвета, что и у рабов, которых убивали вслед за хозяином. Нет, Серений, люди становятся хищниками, потому что в империи нет правил престолонаследия. Чтобы не быть убитым, надо убить самому. Избирательный закон, который уважали во времена республики, не используется при назначении императора. Поэтому тот, кто претендует на трон, вынужден рассчитывать более на свою охрану, нежели на граждан. На полководцев и правителей, а не на сенат. Республика, существовавшая до Цезаря, не вернется.
— Значит, кровь? Кинжал, яд, убийство? Безграничное могущество одного человека, которого власть лишает разума, — не соглашался я.
Взяв меня за локоть и как бы размышляя, он продолжал убеждать:
— Надо, чтобы императором стал человек мудрый, не способный впасть в безумие от безграничной власти, по сути, превращающей его в бога. Он должен править взвешенно и милосердно, в интересах империи и не искать наслаждений, доступных могущественному властителю. Людям же из его окружения надлежит призывать его к разуму, к мудрости, они должны стать его друзьями и советниками.
— А Калигула? — спрашивал я.
Оглянувшись, Сенека отвечал:
— Это безумие может остановить только смерть. Есть люди — я в этом уверен, — которые уже точат свои кинжалы. Не вмешивайся, Серений. Наше время — время мудрости — еще не настало.
Время было тревожное, безжалостное, сумасбродное. Калигула рядился то гладиатором, то возничим колесницы. Он выходил на сцену и, как фигляр, пел, плясал, декламировал, а затем, спрыгнув в зал, хлестал кнутом кого-нибудь из зрителей, который, как ему показалось, мешал представлению кашлем или шепотом.
С угрожающим видом он подходил ко мне, уводил и начинал расспрашивать о сыне Агриппины, о заговорах, о которых я должен был знать. Он смеялся, рассказывая, что ему приготовили какой-то новый яд, действие которого он испытал на гладиаторах и рабах. Несчастные вопили, корчились от боли, и это было самое удивительное зрелище, какое ему довелось видеть.
— Серений, будь мне верен! — ворчал он, удаляясь.
Это случилось за девять дней до февральских календ, в седьмом часу вечера, когда Рим уже окутали сумерки. В одном из закоулков дворца Калигулу подстерегали заговорщики с мечами наготове. Предводитель когорты Кассий Херея, которого император постоянно унижал и притеснял, ударил первым, но рана на шее оказалась несмертельной. Тогда его товарищ Корнелий Сабин пронзил Калигуле грудь. Однако тот, распростертый на мраморном полу в луже крови, продолжал кричать. И тут остальные, накинувшись скопом, добили императора тридцатью ударами. Некоторые старались попасть в срамное место.
Ненависть, желание отомстить и страх, который Калигула поселил в душах людей своими преступлениями за четыре года царствования, были так велики, что один из заговорщиков ударом меча сразил жену императора, а другой размозжил голову его дочери.
Не мешкая, я отправился в дом к Лепиде, где жил ребенок.
Клавдий, дядя Калигулы и Агриппины, только что был назначен наследником императора. Телохранители встретили это известие с восторгом, и новоиспеченный властитель в благодарность выдал каждому по пятнадцать тысяч сестерциев. Впервые в истории Рима такую награду получали военные, поддержавшие переворот.
Вокруг мальчика суетились кормилицы, Эглогия и Александра, и брадобрей с плясуном — его воспитатели. Я объявил им хорошую новость: среди первых распоряжений, сделанных новым императором, было освобождение Агриппины и возвращение ей конфискованного имущества. Ее сын вырастет в богатстве, и мать будет с ним.
Я говорил с четырехлетним мальчиком так, как будто передо мной взрослый мужчина, и мне казалось, что он все понимает. На его лице сперва отразилось напряженное внимание, потом — на какое-то мгновение — бурная радость, которая сменилась привычным выражением тревоги.
Позже я часто вспоминал этот затуманенный тревогой детский взгляд: как будто он предчувствовал, что опасность — его постоянный удел. И что мир, куда он входил, сплетен из интриг и зависти, раздираем соперничеством и запятнан преступлениями.
Вокруг него, как тигрица, преследующая добычу, кружила Мессалина, супруга Клавдия, только что родившая сына, нареченного Британиком. В ребенке Агриппины она видела соперника своему. Что же до Агриппины, то та восприняла появление на свет Британика как катастрофу, лишающую ее дитя перспективы, о которой она мечтала. Она ходила от одного могущественного лица к другому, плетя свою сеть. Вышла замуж за богатого и влиятельного сенатора Пассиена Криспа. А мальчик наблюдал весь этот калейдоскоп лиц, слышал голоса, угрозы. Вздрагивал, когда посланные Клавдием охранники врывались в жилище Ливии, сестры Агриппины, чтобы арестовать ее за участие в заговоре. А потом угрожали самой Агриппине, утверждая, что она остается на свободе лишь благодаря доброму отношению императора и стараниям ее мужа Пассиена Криспа.
Угрозы, предательства, интриги, убийства составляли повседневность, в которой жил мальчик. Могло ли все это не оставить тяжелого следа в его душе? При моем приближении он прятался за спинами кормилиц или, напротив, пытался вызвать мое расположение улыбкой или песенкой, напетой тоненьким голоском. Ребенок словно чувствовал, что его благополучие и даже жизнь в моих руках.
В императорском дворце ходили слухи, будто Мессалина, озабоченная интересами своего сына, подослала своих людей задушить мальчика во сне. Когда убийцы подошли к кровати Луция Домиция, то увидели там змею размером с дракона и в страхе бежали. А утром на подушке нашли пятнистую змеиную шкуру. Агриппина сделала из нее браслет, оправленный золотом, и надела на запястье ребенка. Я видел этот браслет однажды, когда мальчик поднял руку, как бы защищаясь от исходившей от меня опасности. Я в интригах и заговорах не участвовал. Я был всего лишь учеником Сенеки, но этого оказалось достаточно, чтобы внушать подозрения.