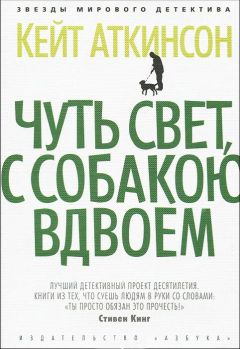Сидеть в такой позе было неудобно; ей до сих пор помнилось, как у нее ныли бока, — она страдала во имя папиного искусства. Великий портретист Льюэллин Бересфорд, обласканный богатыми и знаменитыми, оставил после себя одни долги. Сильви по сей день ощущала эту потерю — нет, не отца, но той жизни, которую он построил, как оказалось, на песке.
«Что посеешь, — тихонько причитала ее мать, — то и пожнешь. Только вот сеял он, а нам и пожинать-то нечего».
За его смертью последовали унизительные торги по распродаже имущества, и мать затащила Сильви на аукцион, как будто поставила своей целью проводить глазами каждую вещь, которая уплывала из их рук. Неузнанные (как им хотелось надеяться), они сидели в заднем ряду и смотрели, как их добро выставляют на всеобщее обозрение. Под конец этого оскорбительного действа на продажу выставили этюд к портрету Сильви. «Лот сто восемьдесят два. Выполненный углем портрет дочери художника», — объявил аукционист; по всей вероятности, ангельский облик Сильви был совершенно неочевиден. Пусть бы отец пририсовал ей нимб и крылья, чтобы прояснить свой замысел. А так с портрета смотрела миловидно-сердитая девочка в ночной сорочке.
При каждом объявлении цены какой-то потрепанного вида толстяк поднимал вверх свою сигару, и «Сильви» в конце концов ушла с молотка за три фунта десять шиллингов и шесть пенсов. «За бесценок», — сокрушалась ее мать. Сейчас, наверное, и этого бы не дали, подумала Сильви. После войны отцовские работы напрочь вышли из моды. Где же теперь этот портрет? — подумала она. Хорошо бы его вернуть. От этой мысли ее отражение в зеркале сделалось сердитым. Когда торги ни шатко ни валко подошли к завершению («Сборный лот: парные бронзовые подставки для каминных дров; серебряная ступка, с патиной; медный кувшин»), они, зажатые в толпе у выхода, случайно услышали, как тот неряшливый толстяк, не понижая голоса, заявляет своему спутнику: «Хотя бы расслаблюсь под этот свеженький персик». Мать Сильви вскрикнула — негромко, поскольку закатывать сцены было не в ее привычках, — и потащила свою невинную ангелицу в сторону.
Все прахом, говорила себе Сильви, все идет прахом. С начала начал, с момента грехопадения. Она поправила воротник пелерины. Для такого наряда сейчас было слишком жарко, но она считала, что меха красят ее, как ничто другое. Голубой песец; думать об этом было грустно: Сильви с нежностью относилась к лисам, которые забегали к ним в сад, — от них и пошло название поместья. Сколько же их потребовалось на эту пелерину? — задумалась она. Уж всяко меньше, чем на шубу. В шифоньере у нее висела норка — подарок от Хью на десятую годовщину их свадьбы. Пора отдать ее в переделку, чтобы выглядела более современно. «Как и меня», — сказала она зеркалу.
У Иззи была новенькая шубка-баллон. Из соболей. Как Иззи обзаводилась мехами, не имея ни гроша? «Это подарок», — отвечала она. Естественно, от мужчины, а мужчины не дарят шубки за просто так. Мужья, конечно, не в счет: тех устраивает самая скромная благодарность.
Дрожащей рукой Сильви, не склонная к излишней нервозности, облилась духами до полуобморочного состояния. Ей предстояло провести вечер в Лондоне. В поезде будет жарко и душно, а в городе — и того хуже; мехами придется пожертвовать. Как песцы пожертвовали ради нее своей жизнью. Получилась, с позволения сказать, шутка из разряда тех, что мог бы отпустить Тедди, но не Сильви. Сильви не обладала чувством юмора. Такова уж была ее натура.
Почему-то ее вниманием завладело фото на туалетном столике: студийный портрет, сделанный после рождения Джимми. Сильви позировала сидя. Новорожденный, в просторном платьице, в котором крестили всех Тоддов, будто переливался через край ее объятий, а весь остальной выводок, призванный изображать благоговение, был со знанием дела рассажен вокруг. Сильви провела пальцем по серебряной рамке, желая найти нежность, но нашла только пыль. Надо будет отчитать Бриджет. Девчонка стала филонить. («От прислуги рано или поздно жди гадостей», — поучала свекровь, когда Сильви вышла замуж за Хью.)
Шумная суета у входа могла означать только одно: возвращение Иззи. Сильви неохотно сменила меха на легкую вечернюю накидку, ради которой пожертвовали жизнью лишь трудолюбивые гусеницы шелкопряда.
Потом надела шляпку. Старомодная прическа лишала ее возможности носить популярные ныне аккуратные «менингитки», шлемики и береты, поэтому она до сих пор ходила в шляпке-капюшоне. Внезапно ей в палец впилась длинная серебряная шляпная булавка. (Можно ли шляпной булавкой убить человека? Или только ранить?) У Сильви вырвалось проклятие, отчего умытые, невинные личики ее детей на фотографии приобрели укоризненное выражение. Ничего удивительного, подумала она. Вскоре ей предстояло разменять пятый десяток, и эта перспектива вызывала у нее недовольство собой. («Еще большее недовольство», — подкусывал Хью.) Ей в спину дышала раздражительность, а впереди маячило безрассудство.
Она окинула себя последним критическим взглядом. Сойдет, подумалось ей, хотя останавливаться на таком суждении было совсем не обязательно. Вот уже два года они с ним не виделись. Сочтет ли он ее красавицей, как прежде? Ведь именно так он ее и называл. Есть ли в целом мире хоть одна женщина, равнодушная к такому обращению? Но Сильви не поддалась и сохранила свою честь. «Я замужняя женщина», — чинно повторяла она. «Тогда, радость моя, не нужно играть в эти игры, — говорил он. — Последствия могут слишком больно ударить по тебе… по нам обоим». От этих слов он смеялся, будто находя в них некую притягательность. В самом деле, она его поманила, а потом обнаружила, что зашла в тупик.
После долгого отсутствия — в интересах Империи его направили с важной миссией в одну из колониальных стран — он вернулся, жизнь Сильви стала утекать как вода у нее между пальцев, и охота к чопорности пропала напрочь.
Ее встретил необъятный букет колокольчиков.
— Ах, какая прелесть — колокольчики! — обратилась она к Тедди.
К своему мальчику. У нее было еще двое сыновей, но те как-то не считались. А дочери порой не столько вызывали нежность, сколько доставляли неприятности, с которыми приходилось разбираться. Из всех детей только один сжимал ее сердце в кулачке, грязноватом притом.
— Беги умойся перед чаем, милый, — сказала она Тедди. — Чем, интересно, ты занимался?
— Нам нужно было получше узнать друг друга, — сказала Иззи. — Замечательный мальчуган. А ты, между прочим, шикарно выглядишь, Сильви, и аромат такой, что веет за сотню ярдов. Прямо femme seduisante.[3] У тебя что-то намечается? Ну-ка, признавайся.
Сильви испепелила ее взглядом, но была избавлена от необходимости отвечать, потому что увидела грязные крокодиловые туфли и грязно-зеленую цепочку следов на дорогой ковровой дорожке в прихожей.
— Прочь! — потребовала она, подталкивая Иззи к порогу, и повторила: — Прочь!
— Чертовка, — проговорил себе под нос Хью, появившийся из своей «роптальни»,{14} когда Иззи уже бежала по тропинке. Повернувшись к Сильви, он заметил: — Прелестно выглядишь, дорогая.
Они услышали, как ожил двигатель принадлежащего Иззи «санбима», и автомобиль с душераздирающим ревом сорвался с места. Машина у нее летела, как у жабы по имени мистер Тоуд: стремительно и оглушительно.{15}
— Рано или поздно она кого-нибудь задавит, — сказал Хью, образцовый водитель. — Кстати, я думал, у нее в карманах пусто. Каким же способом она изыскала средства на новую машину?
— Не самым пристойным, будь уверен, — ответила Сильви.
Тедди наконец-то избавился от гнетущего пустословия Иззи, но теперь страдал от обычного допроса, который всякий раз учиняла мать, желая убедиться, что никого из ее детей не развратило тем или иным образом общение с Иззи.
— У нее во всем своя корысть, — туманно добавляла Сильви.
В конце концов он был отпущен, чтобы выпить чашку чая и подкрепиться кое-как приготовленным бутербродом с сардинами на подсушенном хлебе — миссис Гловер отпросилась на весь вечер по своим делам.
— Она жаворонка съела, — сообщил за чаем Тедди своим сестрам. — В Италии. Хотя какая разница где.
— Жаворонка подобьешь — добрых ангелов спугнешь,{16} — сказала Урсула и, когда Тедди ответил ей непонимающим взглядом, пояснила: — Блейк.
— Хоть бы ее саму кто-нибудь съел, — жизнерадостно пожелала Памела.
Она поступила на физико-математический факультет Университета Лидса. Ей не терпелось уехать «к бодрящему северу», «к реальным людям».
— А мы, выходит, нереальные? — пробурчал Тедди Урсуле, которая со смехом сказала: «А что вообще есть реального?» — и Тедди, у которого не было оснований ставить под сомнение феноменологический мир, счел, что это дурацкий вопрос. Реально то, что можно увидеть, распробовать, потрогать.