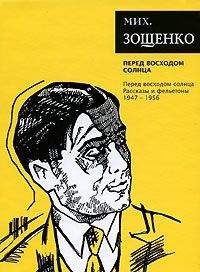— Правда, — ухмылялся старик, — бот нередко упирался носом в берега Яузы, этой паршивой речонки, но…
— Но, — смеялся Лефорт, — очевидно, повинуясь рулю?
— Да, да, бот все время повиновался, — добродушно соглашался старик, не замечая подвоха.
Потом Брант рассказывал — в который уж раз! — как царица Наталья Кирилловна старалась оградить сына от такой опасной, как ей казалось, забавы и что из этого получилось. Как он рассказывал, было так.
Как-то брат царицы Лев Кириллович сказал ей, указывая на Петра:
— А ведь он опять по Яузе плавал. Один!
— Ах, разбойник! — всплеснула руками Наталья Кирилловна. — Петруша, поди сюда!.. Почему ты по Яузе плаваешь, да еще и один?
Тот молчит.
— Почему? Я тебя спрашиваю!
Молчит.
— Я тебе не велела плавать?
— Не велела.
— А почему же ты плаваешь, да еще один?
— Я все время забываю.
Рассказывал Брант и, о том, что Яуза скоро показалась царю тесной; бот перетащили на пруд, но и там было мало простора; тогда Петр отправился со своим ботом на Переяславское озеро, где уже судно оказалось слишком малым и поэтому он, Карстен Брант, снова принялся за свои старые топор, рубанок и циркуль и начал строить два небольших фрегата.
— Два фрегата! — поднимал два пальца старик. Рассказывал он однотонно, с трудом. И его собеседники думали:
«Ну какой из тебя инженер!»
Много разного люда заходило к Лефорту и на званые вечера и так. запросто, на «огонек». Если Патрик Гордон, уравновешенный, осмотрительный и строгий шотландец с широким, бледным и важным лицом, крупными белесыми ресницами и серо-стальными глазами, смотревшими едко и умно, считался в немецкой слободе головой, то весельчак и щеголь Лефорт был душой общества. В доме Франца Яковлевича можно было узнать последние новости, поделиться виденным, слышанным, дошедшим с родины, выпить стакан отменного вина, кружку доброго пива, сыграть партию в шахматы, в шашки, перекинуться в карты, потанцевать с веселой, хорошенькой девушкой.
Как-то завернул к Лефорту дядька царя Петра, князь Борис Алексеевич Голицын, с друзьями. Пировали до утра. Угощением русские гости так остались довольны, что большинство блюд отослали своим женам, а конфеты все растаскали по карманам. После ужина — кофе с диковинными ликерами пили- в диванной, большой, изящно обставленной комнате с паркетом, цветами, роскошными гобеленами, картинами в золоченых венецианских рамах. Вокруг большого круглого стола были поставлены широкие оттоманки с подушками. За столом приходилось полулежать, и князю Борису особенно понравилась такая вольготная обстановка.
Князь Борис, высокий, широкоплечий красавец блондин, по-польски щеголеватый, в роскошном малиновом кунтуше с откидными рукавами — «вылетами», в ярко-желтом жупане и широченных голубого бархата шароварах, пил много, без разбору, как дудка: и кофе, и отдельно ликер, и вино вперемежку.
Говорил, потирая бритый ямистый подбородок, поблескивая голубыми глазами:
— Не я буду, Франц Яковлевич, если к тебе государя Петра Алексеевича в гости не привезу. Только, — просил, — придумай для такого случая что-нибудь позанятнее. Фейерверк, что ли. Уж очень люба Петру Алексеевичу эта потеха! — Показал на Гордона: — Он приохотил.
После француз Невилль, как-то, будучи в гостях у Лефорта, ругал князя Бориса Голицына.
— Вот вам, — обращался к Гордону, — передовой русский человек. Один из первых повернувший на новую дорогу, сознавший необходимость образования и преобразования, но, как он еще недалеко ушел от своих прародителей!
Лефорт рассеянно черпал ложечкой землянику, запивал красным вином, в разговор не вникал, думал о чем-то своем.
Гордон, вытянув ноги в тяжелых ботфортах, склонив на грудь голову, терпеливо слушал, — молчал.
— Грубый, дикий человек! — возмущался Невилль. — Европеец и печенег! Говорит по-латыни и беспробудно пьет, уносит конфеты с чужого обеда!
— Мне кажется, мосье, — перебил его Гордон, — не в этом суть дела. Царь Петр выбежал из дворца на улицу. А вы видели, как грязна эта московская улица!
Резко придвинулся к столу, отчего парик его рванулся вперед.
— Впрочем, — мотнул головой, — извините, я вас перебил.
— Ах, нет, сделайте одолжение! — засуетился француз.
— Нет, пожалуйста.
— Нет, сделайте одолжение, вам виднее, вы опытнее в этих делах.
Гордон поклонился.
— Молодого царя, я полагаю, — продолжал он, — нужно удерживать от крайностей, к которым влечет его страстная, я бы сказал — огненная, натура.
Поглядел на свои руки, пошевелил пухлыми пальцами.
— А самым влиятельным человеком в этом отношении является как раз князь Борис.
Гордон знал, что Невилль, прочно связанный с французскими фирмами, наводняющими Европу колониальными товарами, уже по одному этому не может простить русским, достаточно равнодушным к этим «тонким» товарам, отсутствия у них, «этих варваров», «тонкого», по его мнению, вкуса. Тем не менее Гордон решил завершить свое рассуждение, хотя бы только потому, что этого требовало от него, прямолинейного человека, чувство собственного достоинства.
— Вы, — грузно, всем туловищем повернулся он к де Невиллю, — напрасно такого э… строгого… мнения о князе Борисе.
— Строгого?! — изумился Невилль. — Боюсь, что я уже не могу о таких мыслить иначе.
— Князь Борис, — покачал ладонью Гордон, давая понять, что он не закончил мысль, — человек безусловно умный, энергичный, достаточно образованный. Он, как вы знаете, оказал Петру важные услуги с Софьей. И теперь непоколебимо верен Петру, оберегает его интересы.
— Будьте покойны! — по-своему согласился Лефорт. И без видимой связи добавил: — Жизнь наша на каждом шагу зависит от глупого случая, и, стало быть, мосье, — обратился к Невиллю, — излишне раскладывать по полочкам, что хорошо и что плохо… Все хорошо, что не мешает жить. — Взмахнул рукой, щелкнул пальцами. — На что и жить, коли не пить!
— Да, но и проводить большую часть своей жизни за бутылкой вина, — скривил губы Гордон, — это… можно добиться того лишь, что нос станет сизый, как слива.
— И что же? — улыбнулся Лефорт. — Говорят: сизый нос — свидетель постоянства характера.
Все засмеялись.
Остальные гости постепенно разошлись, комнаты опустели, беседа приняла более домашний, интимный характер.
— Наша задача, — твердо выговаривал Гордон, уставившись на Невилля тяжелым взором выпуклых серых глаз, — быть ближе к русским, которые тянут к Западу и являются, так сказать, охотниками до иностранцев.
— Мы, французы, — деликатно улыбался Лефорт, — несколько легкомысленно, а иногда и не совсем добродушно любим преувеличивать. Петр Алексеевич просто хочет другой жизни. Он не может долго оставаться в удалении от людей, которые его многому могут научить.
— Я понимаю Лефорта, когда он считает, что жизнь должна быть каждую минуту красивой, неожиданной, смелой, — говорил Невилль, подбирая слова, — но… некоторые, а возможно, даже и большинство из нас, прилагают слишком много энергии, чтобы устроить здесь, в России, свое личное благополучие, и абсолютно недостаточно, на мой взгляд, занимаются подлинно патриотической деятельностью в пользу своей страны. Я имею в виду…
— Шпионаж, — глухо произнес Гордон и нервно забарабанил пальцами по столу.
Сморщившись, как морщится человек, положивший в рот изрядную долю лимона, Невилль приложил два пальца к виску.
— Простите, мосье, но это слишком прямолинейно.
— По-солдатски, — заметил Гордон.
— Да… То есть я хотел только отметить, что преданность своему правительству у тех господ весьма невелика или, по меньшей мере, она отступает на задний план перед интересами личного порядка. Я хотел сказать только это, мосье.
— Ясно, по-видимому, — продолжал Невилль, мягко коснувшись локтя Лефорта, — что мы должны играть в России роль первой скрипки. И римский папа…
— Знакомо! — не выдержал, буркнул Гордон, снова перебивая Невилля. — Римский папа! Кому не известно, о чем мечтает этот латинский джентльмен?
Желто-прелое личико француза подернулось грустью.
— Хорошо, пусть известно! Но мы совершили бы большую ошибку, — продолжал он, минуту подумав, — если бы проявили в этом вопросе недостаточную осмотрительность и излишнюю поспешность… Кстати: мне кажется, большое несчастие нашего века — чуть только собеседник заметит пусть даже незначительное преувеличение, как тотчас же выстраивается на иронический тон. Что? Не так?
Никто ему не ответил.
— Но главное, конечно, не в этом. Главное — надо иметь в виду, господа, — Невилль поднял тонкую бровь, — что вокруг русского трона еще много, очень много косных, диких людей, распаленных правой верой, голодом по наживе, тоской по разбою.