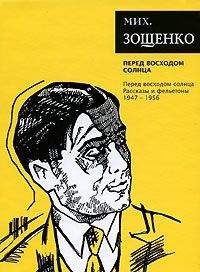Никто ему не ответил.
— Но главное, конечно, не в этом. Главное — надо иметь в виду, господа, — Невилль поднял тонкую бровь, — что вокруг русского трона еще много, очень много косных, диких людей, распаленных правой верой, голодом по наживе, тоской по разбою.
— Мы это уже прочувствовали, мосье, — сухо заметил Гордон и, поджав пухлые губы, приподнял бокал.
— И чего мудрить! — недоумевал Лефорт, пожимая плечами. — Чувствуй одно, понимай одно: живи глубже, живи до самого дна!
Но на его реплики не обращали внимания.
— Я воздерживался в прошлом и воздерживаюсь в настоящее время от предсказаний возможной нашей роли в России, — говорил Гордон, рассматривая на свет темно-золотистый херес. — Единственное мое предсказание заключается в том, что наши противники, эти косные, дикие люди, о которых вы говорили, — повернулся к Невиллю, — здесь, в России, будут окончательно разгромлены. Но, — вперил он в Невилля строгий, испытующий взгляд, — это при одном непременном условии: продавая русским свои шпаги, мы должны отдавать им и преданность, и совесть, и сердце!
Гордон жил в России уже около тридцати лёт, по-русски говорил хорошо. Невилль тщательно подыскивал выражения, русские слова коверкал на французский манер.
Алексашка, вертясь около гостей, прислушивался к их разговорам, понимал с пятое на десятое.
«Умны-ы, — думал, — иноземцы. Шпаги, совесть… ишь что думают продавать! Но только, — лукаво улыбался, щуря глаза, — и мы не все лыком шиты, чтобы такой товар покупать! — Мечтал: — Земляные крепости воевать, скакать на борзом коне, плавать под парусами! Эх, кабы довелось так пожить! — Встряхивал кудрями, топал ногой. — Я бы всем нос утер!»
— Ерой! — усмехался дядя Семен, когда Алексашка делился с ним такими-то мыслями. — С суконным рылом да в калашный ряд захотел! Куда те, паря! Ты кто?
И Алексашка опускал было голову.
«Ужели никак не пробьюсь?»
Предки Меншикова в поисках более сытой жизни когда-то отъехали из России в Литву. А отец Алексашки, Данила Васильевич Меншиков, прожившийся, обнищавший хуторянин, вынужден был снова возвратиться в Россию.
— Поборами разорили вконец, — рассказывал Данила приказным в Москве. — А тут еще церкви православные позакрывали. Пришлось бросить все да пробираться сюда.
— Как в гостях ни хорошо, а дома, видать, лучше, — заключали подьячие. — На грош пятаков-то, знать, нигде не дают?
— Видно, так, — покорно соглашался Данила.
В Москве Данила Васильевич долгонько скитался по чужим углам. На городских торжках толпами бродили «вольные люди», жившие «походя по наймам»: мастеровые разных ремесел, пастухи конские и коровьи, полесовщики, косари, «казаки по найму» и просто «меж дворы бродячие люди» из разорившихся, обнищавших крестьян, согласные на любую работу. Встречались здесь и хилые старики, и в поре мужики, и совсем еще мальчики, истомленные и до времени вынянувшиеся на тяжелой работе.
Появлялись поденщики на торговых площадях еще до свету. Мастеровые пытались шутить:
— Не бойсь, все свои.
— Беда, — растерянно улыбались крестьяне, — в избе зернышка не осталось, обезживотели вовсе.
— Нужда не помилует.
— Как-то нанимать ноне будут?
Загоралась заря бледным румянцем; неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над площадями; медным блеском начинали отсвечивать окна. И торжки оживали.
— Сколько же нонче этой слякоти поденщиков понапер-ло! — смеялись плотные, русоволосые купчики, отворяя кованые ставни лабазов с той особенной ловкостью, которая приобретается за прилавком.
Меж поденщиками толкались господские приказчики, дворецкие. Они рядились, божились и страшно ругались.
— Крест-то есть на тебе?! — пытался корить такого поденщик. — Прибавь хоть семишник!
— Вона! Богаты будете скоро!
— Какая же это цена?
— Базар цену ставит.
— Да этак же даром!
— А не хочешь за харчи за одни?
— Да ведь дома нужда!
— Нужда от бога…
Приходилось, стало быть, Даниле Васильевичу и Христовым именем побираться. Было и так.
— Горюшка хлебнули, — вспоминает это время Наталья Сергеевна, жена Данилы Васильевича. — Спасибо добрые люди помогли, не то бы… — и обычно, не договорив, безнадежно махала рукой.
Потом — суд да дело — Данила определился на службу, да и не как-нибудь, а конюхом при дворце. Вымолил у приказных, как гонимый за православие. Дальше — больше, стал поправляться. Сколотил малую толику деньжонок. Избенку о три оконца сторговал около Семеновского под Москвой, поселил в ней семью: жену с тремя малолетними дочерьми — Маняшкой, Анкой, Танюшкой. А восьмилетнего сына Алексашку отдал в ученье к пирожнику.
— Жить стало много легче, — говорила Наталья Сергеевна. — Свой угол — это одно, а потом в семье два мужика — и оба при деле.
Отец с сыном, правда, редко бывали в семье. Обоим одинаково трудно было отпрашиваться на побывку. Получалось, и в будни недосуг и по праздникам то же. По праздникам зачастую у обоих — самое горячее дело. Так оно время и шло.
В первые два полка, Семеновский и Преображенский, набирались царем Петром и дворцовые конюхи.
Попал в преображенцы и Данила Васильевич Меншиков.
Последний раз, когда Алексашка видел отца, — а было это чуть не месяц назад, — показался он ему каким-то особенно ловким, красивым. Этакий свежий, загорелый, с умными, слегка прищуренными глазами, широкоплечий, в ладно сшитом кафтане с красными обшлагами, на голове диковинная шляпа с позументом, на ногах крепкие, высокие сапоги. Легко, как перышки, подбрасывал он вверх Анку, Танюшку. Алексашку тоже сгреб под мышки, уткнув нос в кружева на сыновьей груди, нарочито громко фыркал:
— Ф-фу, дух какой! Ну и франт! Отступив на шаг, качал головой.
— А кафтанчик! А туфельки! А чулочки! — Подмигивал жене, кивая на сына. — Чистый француз, мать честная!
В семье с приходом отца и сына — настоящий праздник.
Соскучились. А в тот раз и еще причина была: отца произвели в чин капрала.
Данила Васильевич был весел, шутил, гремел денежками в кармане.
— Вот они, — похвалялся, шутя, — у капрала-то! Одна звенеть не будет, у двух звон не такой! Теперь можно и пироги ситные в обмочку есть!..
Сестренки сосали конфеты, принесенные братцем, грызли сухой английский бисквит.
Алексашка хлебал житный квас с тертой редькой. Мать поглаживала его по спине, жалостливо приговаривала:
— Ешь на здоровье! Ишь соскучился у хранцузов по нашей, по простой-то еде!..
Ласково заглядывала в васильковые сыновьи глаза:
— Может, и горошку с льняным маслом поешь? А, сынок? Капустки вилковой? У нас так говорится: «Есть капуста бела — зови гостей смело»…
И, отвертываясь к окну, пряча свое растерянное, уже старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз, она тайком смахивала градинки слез, по-матерински казнясь:
«Уж больно худ, мой касатик! Что с ним такое?.. И харч, как говорит, вольный у его у хозяина…»
Вечером сидели во дворе, за столом под кудрявой рябинкой.
Мать ощипывала курицу, примостившись с края стола. Поглаживая куриную грудку, Танюшка болтала:
— Маманя! А Рябушка-то не хотела зарезаться. Мне жалко…
Анка, дергая ее за рукав, ловко съерзывала на землю, перебегала, мелко семеня босыми ножонками, на другую сторону стола и снова взбиралась на лавочку.
— Вертишься, как демонейок! — грозила ей мать. Отец отхлебывал из стаканца вино, принесенное сыном, закусывая кренделем, пространно, стараясь быть понятнее сыну, рассказывал о военных потехах молодого царя Петра Алексеевича.
Про такое Алексашка мог слушать сколько угодно: для того и вина принес от Лефорта, чтобы отцу язык развязать.
— Баталии да маневры беспрестанно идут — либо готовимся, либо воюем, — рассказывал отец, — то в Преображенском, то в Семеновском, то в селе Воробьеве. И города, и крепости земляные воюем, и рвы, и накаты. Такая битва идет! Рота на роту, полк на полк ходят с игрецкой стрельбой из мушкетов и пушек… Все как на самом деле, как на самой войне, — заключил тогда батя, хлопнув по колену всей пятерней.
Хлопнул отец и как будто пришил Алексашкину мысль. С того времени, видимо, и решил Алексашка твердо, без отступу: пробиться в царев полк, наилучше в Преображенский, где батя служил.
Постоянно находясь у себя в компании «еретиков», Петр вскоре решил побывать и у них, в Немецкой слободе.
У Лефорта Петр был в первый раз 3 сентября 1690 года. Приехал к обеду. Вместе с Петром прибыли: Федор Ромодановский, Автоном Головин, Борис Голицын и Никита Зотов.
Позвал было Петр с собою и дядю, Льва Кирилловича Нарышкина, но тот наотрез отказался.
Уперся: «Невместно мне» — в шабаш! Ворчал:
— Все Бориско Голицын мутит, чтоб ему, пьянюге, ни дна ни покрышки!