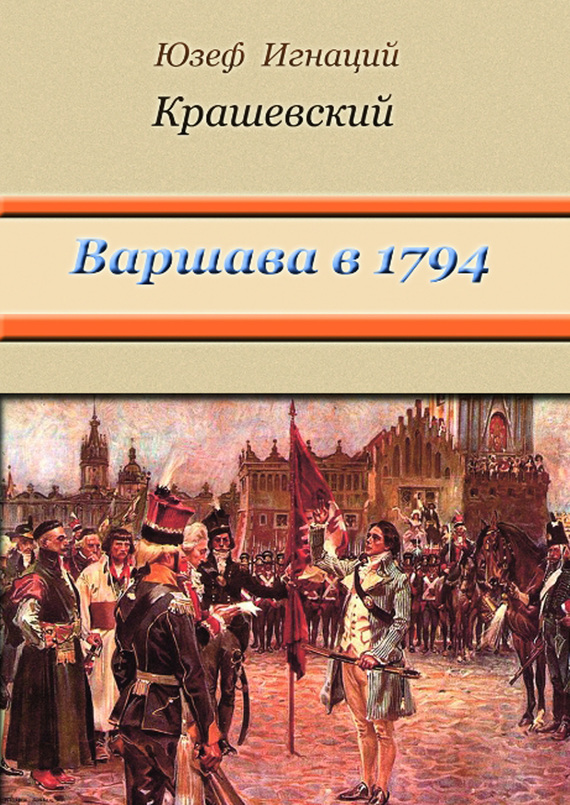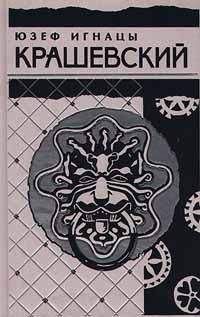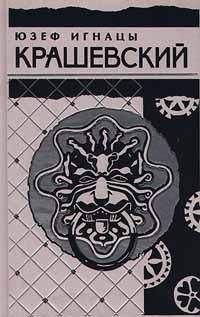кровью позор тех людей, что подписали приговор собственной стране.
По всем пробежал будто электрический разряд…
* * *
Мне было тогда двадцать два года, не мог, поэтому, быть допущенным ни к совещаниям, ни к какой тайне, но душой и сердцем я принадлежал к обществу всех моих коллег, ожидающих только знака к борьбе. Я не знаю, были ли москалям видимы какие-нибудь приготовления, для нас же были они явными…
Во второй половине марта уже в стане москалей в Варшаве была видна какая-то тревога и чрезвычайные средства осторожности, предпринятые для удержания порядка в столице…
Горожане ходили хмурые, словно не зная и не узнавая друг друга на улице и бросая друг на друга взгляды согласия – среди военных и ними нашлись неожиданные знакомства и небывалая приязнь…
Размещался я в то время в квартире при Медовой улице, в доме Карася, где мне кровные Манькевичи дали комнатку наверху. Старый Манькевич приехал сюда для лечения глаз, его сопровождала жена, а оттого, что болезнь была упрямой, уже год пребывая и привыкнув к месту, не думали его оставлять. Манькевич, старый шляхтич, но человек с головой и необыкновенными дарами мысли, жил очень умеренно, по-литовски, кормил также и меня от доброго сердца и забавлялся тем, что должен был знать о том, что происходило.
Он был очень осторожным, дабы не подвергать себя опасности от москалей, всё-таки опасение за себя побеждал горячий патриотизм, живой и беспокойный ум.
Старик ходил с зелёной заслонкой над слабыми глазами, с палкой, потому что был очень тучный, но в доме усидеть не мог и с того времени, как сюда прибыл, столько завёл знакомств, что с новостями проблем не было. А умел их добывать от каждого так ловко, что сам, смеясь, уверял: «Мой господин! Когда я выпытываю, говорят мне даже то, чего не знают. Это так, – сразу он объяснял, – так, потому что неоднократно поведал мне человек такую вещь, которая для него была непонятной, а для меня весьма значащей». Манькевич нанял себе весь этот дом (не дворец этого названия) и по той причине, как рассказывал, что не мог вынести проживания с людьми, которых бы не знал и которые бы ему могли колышки на голове тесать. Наняв дом, он пораздавал и посдавал комнаты, которые ему были не нужны, но уже тут чувствовал себя паном. Таким образом мне досталась комнатка, потому что старый Манькевич приходился мне дедушкой и очень любил меня.
Манькевичи детей не имели… при себе, одна их замужняя дочка жила в Литве.
Не было более ревностного собирателя новостей, сведений и сплетен, памфлетов и брошюр, чем старый Манькевич. Он ломал себе глаза, вписывая, что только доставал, в большую книгу, которую всегда держал под подушкой. Во времена Тарговицы, времена сейма и теперь, что показывалось в Вене или вышло из тайных типографий в Варшаве – всё это он должен был иметь… Он был немного скупым, но на таких бумажках никогда не экономил. За книги тарговицкого раздела он заплатил дукаты, а хотя ответ на них не много стоил, талеры и за это давал для комплекта. А то, что имел исключительную память, читал потом всё это как молитву.
Рядом с этой лихорадочной заинтересованностью делами страны, в судьбах которой никогда не отчаивался, Манькевич имел боязнь к русскому почти такую же сильную, как патриотизм. Не гнушался никогда им, но для него достаточно было вида вдалеке замеченного мундира, чтобы замолчать и закрыться в доме и посмотреть под кроватями, прежде чем снова отпускал поводья.
Притом генералам, офицерам и даже фельдфебелям, встречая их на улице, уступал дорогу и кланялся очень вежливо.
Когда иногда жена смеялась над ним, отвечал ей тихо:
– Такая моя система… дьявольская свечка… Да! Дьявольская свечка…
Зато в душе ненавидел их тем больше, чем ниже вынужден был кланяться.
Как сейчас помню, было это вечером семнадцатого или восемнадцатого марта… Время было отвратительное, стегал ветер с мокрым снегом… на улицу было не выйти, я возвратился домой пораньше. Манькевич дал мне прочесть брошюру Nil desperandum (ни в чём не нужно отчаиваться), которую тайно передавали из рук в руки друг другу.
Я скучал над ней у сальной свечи, когда меня позвали вниз на ужин… Мы ели тогда всегда ужин по-литовски, составленный из двух блюд, потому что Манькевич любил есть вкусно, а бабушка Манькевичева умела отлично управлять кухней. Тарелка ароматных зраз стояла уже на столе, бок о бок с кашей из бекона… а старик, сидя, барабанил пальцами по столику и не ел. Он был удивительно задумчив. Жена также, с заложенными на груди руками, задумчивая, только головой качала, словно борясь с мыслями. Войдя, я сразу заметил что-то необычное.
С обеда мы не виделись.
– Что же ты в городе слышал? Гм? – спросил Манькевич.
– В городе? – спросил я. – Ничего нового.
– А видел кого-нибудь? – начал изучать старик, однако сразу потихоньку пододвигаясь.
– Я виделся с несколькими товарищами.
– И не говорили ни о чём? – он посмотрел на жену…
– Нового я пока не слышал.
Манькевичи посмотрели на меня, словно изучая, не скрываю ли я что; мы приступили к еде. Известно про дедушку Манькевича то, что любил он сплетни, а в городе всегда хватает людей, что их носят, особенно, когда ожидают при той ловкости попить или поесть. Уже приступили к зразам, когда слуга объявил пана камергера.
Под этим титулом был известен нам старичок, назначенный ещё при Августе III, сегодня обедневший, живущий не известно чем в городе и играющий роль паразита. Он втиснулся во все дома, где его только как-нибудь принимали, забавлял рассказиками, чрезвычайно жадно ел, принимался за поручения, посылки, принимал даже маленькие подарки и должен был всю свою жизнь так служить людям. Будучи всем обязан саксонцам, ненавидел москалей, приписывая их интригам свержение с трона саксонской династии.
Старый камергер одевался, естественно, по-французски и, несмотря на возраст, был любезен с женщинами, болтал не очень по делу, но легко, много и так, что незнакомому человеку сразу мог вполне хорошим показаться.
Приём камергера в это время, хотя он в доме был достаточно близким гостем, имело своё значение. Он остановился на пороге, будто встревоженный тем, что застал ужин… но уже Манькевич тащил для него стул к столу и просил тарелку. Камергер, извиняясь, занял место. Он очень осторожно огляделся.
– А что же? – спросил Манькевич.
– Самая истинная правда, – пониженным голосом сказал камергер, – пусть болтают что хотят, но это так! Мадалинский пошёл на Млаву к прусской границе… в этом нет