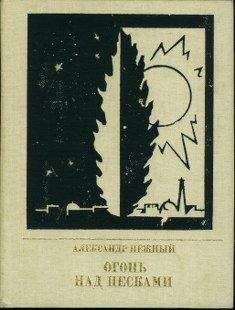— А я вас видел на днях, Аглаида Ермолаевпа…
— Где же? — спокойно и тихо отозвалась она.
— Неподалеку от тюрьмы. Вы назад возвращались. С вами мужчина шел… в белом пиджаке…
— Это муж сестры, он меня провожал, — сказала Аглаида, и с облегчением вздохнул Полторацкий: муж сестры! как просто… — Он хотел свидание получить, но ему не дали… Они уезжают с сестрой. У них какая-то группа образовалась, они все вместе переселяются на Алтай. Думают завести там свое хозяйство, работать сообща… Меня зовут.
Слышно было, как она усмехнулась.
— Дело хорошее, — помолчав, сказал Полторацкий. — Поедете? — собравшись с духом, он спросил, стремясь в то же время, чтобы безучастно-вежливо прозвучал ею голос.
— Собиралась… Но это раньше… словно в другой жизни было. Теперь не до этого. Брат вы сами знаете в каком положении, — сухо и быстро проговорила она, — мама в отчаянии, больна. Все годы, пока Миша на фронте был, она верила, что не убьют его… она нам с сестрой всегда говорила: он вернется, я точно знаю! А сейчас молчит. Я вижу… чувствую — она всякую надежду потеряла… она Мишу похоронила и себя с ним вместе! Я тогда с вами непозволительно резка была, — вдруг сказала она, — вы меня бога ради простите. Но я все равно… все равно не соглашусь никогда, что жестокость оправдать можно. Не соглашусь! — с вызовом повторила Аглаида.
— Оправдать конечно нельзя, я с вами согласен совершенно… но избежать… избежать крайне трудно, даже невозможно, вы мне поверьте. Вот, например, представьте, — дрогнувшим голосом сказал он. — Ночь такая же темная… ни зги не видно. Нас трое, мне в ту пору семнадцать было, я как раз из Ростова в Баку бежал…
— Бежали? Зачем?
— От тюрьмы бежал, Аглаида Ермолаевна. Мне в моей жизни вообще много бегать пришлось… Несмотря на хромоту, — тяжело усмехнулся он. — Да. Нас трое и четвертый с нами, о котором мы совершенно точно знали, что его охранка купила и он наших товарищей выдает, А он и не подозревает даже, что мы знаем. Он с нами идет… Вам в Баку бывать не приходилось?
— Нет.
— Там район есть в черном городе — Баилов, мы туда поехали. И вот представьте — с моря ветер сильный, ночь непроглядная, меня как в лихорадке трясет, я слова но могу молвить, я знаю: убить его мы должны. А он веселый… он еще выпил крепко, идет себе посвистывает, надо мной смеется… я, говорит, и не думал про тебя, Пашка, что ты такой революционер отчаянный! А если полиция сейчас? Тебя первого и схватят — куда ты со своей ногой от них денешься! А я молчу. У меня губы словно смерзлись, Аглаида Ермолаевпа, хотя вполне понимаю, что я ему отвечать должен и даже отшучиваться! Я только об одном думаю — ему двадцать шесть лет, я думаю, и мы его убить сейчас должны…
— Ужасно, — она прошептала.
— Главный-то ужас впереди был, Аглаида Ермолаевна, — с дрожью в голосе продолжал Полторацкий. — Мы его торопим, уже ждут нас, мы ему говорим, товарищ из Петербурга приехал, литературу привез… Там гора была, на ней сад старый, запущенный… Так это все мне в память врезалось — до конца дней ничего не забуду! Ветки скрипели, меня звук этот до костей пробирал…
— Ужасно, — снова сказала она.
— На гору мы поднялись, остановились. Он спрашивает: чего, ребята, встали? А Золотарев… печатник, вместе со мной в типографии работал… Золотарев спичку запалил, к его лицу поднес и говорит: с тобой, Кузнецов, потолковать хотим. Спросить тебя хотим — сколько ты товарищей наших продал, Иуда? Тринадцать лет прошло, а я помню… — глухо сказал Полторацкий. — Гору эту помню, Золотарева, Петю Жихарева, который тогда с нами был… Он желтую шляпу носил, его застрелили месяц спустя. И лицо… лицо этого Кузнецова… Пока спичка горела, я на него смотрел. Ему двадцать шесть лет было, я вам говорил, а в эти мгновения он состарился сразу, он стариком стал! Потом спичка погасла… ее ветер задул…
— Не рассказывайте больше, не надо! — взмолилась Лглаида. — Сначала Клингоф, теперь вы… Господи, какой же вы страшной жизнью живете! Я бы дня не выдержала.
— Я об этом никому никогда не рассказывал… Я даже не понимаю, почему я вам… может быть, из-за Клингофа… Вы поняли, — вдруг остановившись и напряженно вглядываясь в белеющее в темноте лицо Аглаиды, спросил он, — почему отказался от побега сын Савваитова?
— Да ведь сказал Николай Евграфович: он жертв напрасных не хотел более.
— Не только поэтому! Он решил, что раз убил, то и сам умереть должен. Я это все совсем не так понимаю, Аглаида Ермолаевна, — сбивчиво продолжал он, по-прежнему стоя на месте и пытаясь увидеть печальные, ясные и строгие ее глаза. — Он, мне кажется, больше о себе думал… Вы понимаете? А у него права не было себя на первое место ставить и свою судьбу своим же судом решать… Он борец! А раз так, он не себе принадлежит, — с глубокой убежденностью вымолвил Полторацкий. — Я сам себя любой смерти бы предал, если бы ею все исчерпалось. Мне тридцать лет, Аглаида Ермолаевна, и у меня во всю мою жизнь и мысли никогда не возникало о собственном… — счастье, так хотел сказать он, однако, успев подумать, что, может быть, намек покажется в этом слове Аглаиде, произнес после короткой запинки, — довольстве, что ли… Я не помню уже, когда… но рано, я еще мальчишкой был, меня мысль одна мучить стала. Почему существует бедность, я думал… Даже не так: я уже тогда понял, вернее, почувствовал… понял потом, когда ума немного набрался… что бедность унизительна, что она недостойна человека, но что она не сама по себе, она следствие несправедливого мироустройства. Вы этого не знал! вы по-другому росли, а я, когда мать меня в лавку за хлебом посылала, все думал, что хлеба этого на всех нас не хватит, не хватит, Аглаида Ермолаевна! Нас в семье семеро было — мать с отцом, бабка, ребятишек четверо, нам хлеба больше надо было. И как же страдал я тогда Аглаида Ермолаевна! Я сердце надрывал, себя спрашивая — почему?! Мы еще в Новочеркасске жили, у нас сосед был, он болел долго, умер. Три дочери у него остались, в среднюю я влюблен был ужасно! Смешно, — он улыбнулся, — но я тосковал очень, когда ее не видел. Я себе даже мечты строил — вот подрасту, думаю, стану работать, женюсь на ней… Мне тогда лет десять было, она старше — ей уже, наверное, пятнадцатый шел… Когда сосед помер, мать моя все сокрушалась — куда, говорит, девки пойдут, что с ними станет? Марину… ее Мариной звали… я ее три года спустя в Ростове встретил, у вокзала… Тогда всю ночь заснуть не мог, так мне ее жалко было. Я, наверно, устроен как-то не так, но из всего, что я в жизни вижу, я больше всего человеческое горе запоминаю, Аглаида Ермолаевна. И столько его у меня в сердце скопилось — я сказать вам не в силах. Оттого я живу тяжело… без улыбки почти, — прибавил он тихо. — Вот почему я решил однажды и решению моему не изменю никогда: покуда есть на земле несправедливость, покуда есть угнетение и жестокость!.. Мне для себя, для своего счастья, — теперь уже совершенно свободно выговорил он это слово, — жить невозможно, Аглаида Ермолаевна. В этом правда моя. Ей верю, ей служу. И если бы мне сказали: ты умри сейчас, Полторацкий, потому что твоей правде твоя жизнь нужна, я бы умер, не поколебался бы, вы мне верьте…
— Я верю, — она проговорила.
— А что я сказал вам тогда, в тот вечер, когда вы первый раз пришли… жестоко это, я понимаю, и для вас особенно, потому что брат ваш, кровь ваша родная… я от своих слов не отказываюсь, нет, хотя понимаю прекрасно, как вы обо мне подумали и как вообще обо мне думать могли… Но и вы поймите!
— Не надо об этом…
— Нет, надо! — упрямо сказал он. — Сегодня вечер такой, Аглаида Ермолаевна, у меня такого вечера никогда в жизни не было. Я всю боль на себя принять готов! Есть люди, я их встречал, они знают много, но все их знание исключительно от ума идет, и потому главного никогда им не постичь. Дмитрий Александрович не так — он свою истину выстрадал, но в основном своем он неправ, Аглаида Ермолаевна, и я это очень хорошо знаю…
— Мы слишком люди, чтобы самая сердцевина наша, как он этого требует, другой могла стать…
— Менять условия жизни надо, тогда и человек изменится. Голодного накормить надо, бесправному — вернуть достоинство, безмолвному — речь гордую! Клонить голову перед судьбой или ту же голову кружить мыслью о всеобщей любви — две крайности, между которыми человека как унижали раньше, так и теперь унижают… Я Дмитрия Александровича слушал и думал… я сказать хотел, но потом решил, что обидится… Человек, испугавшийся смерти, и свой страх пересиливает с помощью этой своей мысли… Да и мысль-то эта по нынешним временам, Аглаида Ермолаевна, только в сторону куда-то ведет…
Он замолчал, и некоторое время они шли молча. Фонарь уже остался позади, уже на Самаркандскую вышли они, в этот час совершенно безлюдную, и звук их шагов стал здесь сильней и звонче. Еще немного осталось, заметила Аглаида, и с горестным изумлением подумал Полторацкий, что ничего почти не успел сказать ей… Бесконечной представлялась ему дорога и словно бы не убывала нисколько под медленной их поступью — и вдруг!